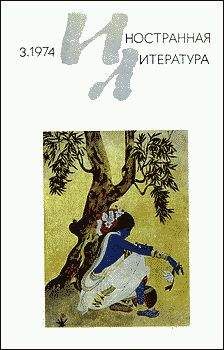— Разделим, — предлагает Матильда, берет у Жоржа пачку и протягивает ее Франсине.
— Нет, оставь себе, — отвечает Франсина, — через неделю у меня конкурс, и я должна беречь горло. Этот слабоумный директор осмеливается утверждать, что с моим голосом можно петь только в салонах: неправильное дыхание, нет широты... Вот кретин! «Опера?! Полноте! Не надейтесь даже на оперетту: из третьего ряда партера вас уже не услышат!» И такому-то разрешается быть профессором музыки, директором консерватории! Настоящая скотина! К счастью, профессор пения, мосье Галтьери, иного мнения. Он знает, на что я могу рассчитывать. Я ему обещала до конкурса беречь легкие, горло, нос, все, что он пожелает.
— На этот раз ты одержишь победу, — примирительным тоном говорит Матильда.
Жильбера забавляет болтовня Франсины, ее возмущение директором консерватории, ее доверие к маэстро Галтьери, на которого, возможно, красота Франсины действует сильнее, чем достоинства ее голоса. Так думает Жильбер. Он знает, что голос — это дополнительное украшение Франсины. Причем он у нее мелодичный — легкое сопрано, однако без больших возможностей, без правильно поставленного дыхания. Карьера певицы была детской мечтой его жены, и время ничего тут не изменило. Бесконечные провалы не обескуражили ее. На сцене единственным ее козырем была красота. Жильбер знает, что она не может быть актрисой. Играет она фальшиво, теряет чувство меры, всякую гибкость. Говорил ли он ей об этом? Пытался, но это всякий раз вызывало бурю отчаяния, упреки, слезы, обвинения — в ревности, в мужском эгоизме, в мещанском, консервативном складе ума. Потом следовали недели плохого настроения, капризов, мигреней. Жильбер знает, что лучше предоставить Франсине мечтать о карьере певицы — тогда у нее сохранится эта ее очаровательная жизнерадостность. Конкурс... через неделю... Если Франсина не получит первой премии, думает Жильбер, что он сможет сделать, чтобы ее утешить? Конкурс... Жильбер объясняет этим некоторые моменты, которые огорчают его. Со времени своего возвращения он страдает от ощущения какой-то пустоты. Его страсть, его желание, обостренное месяцами разлуки, не нашли у Франсины отклика, которого он ждал. Она никогда не отказывала ему, не употребляла никаких женских уловок: не пыталась сказаться усталой, расстроенной, сонной. Но в любви Франсины, в ее ласках была какая-то рассеянность, почти машинальная податливость без всякого порыва.
Жильбер не раз спрашивал себя, не материнство ли вызвало у Франсины такое равнодушие, такое спокойствие. Теперь он, кажется, понял: предстоит конкурс, и вся страсть, на какую способна Франсина, брошена на завоевание этой премии, которой она, конечно, не получит. Жильбер смотрит на нее. Пригнувшись к столу, она с недовольной гримасой маленькими глотками пьет кофе. Вырез платья открывает вытянутую шею, выпуклую линию грудей, прикрытых тонкими зубчиками кружев.
Жильбер вдруг хватается за голову руками, что-то разлетелось в нем на клочки, словно мысль, возникшая в его мозгу, взорвалась гранатой. Неужели он сходит с ума? Он вновь видит рыжеволосую женщину в разорванной одежде, прижимающую к груди бледного как смерть ребенка... собственно, ребенок был уже мертв... Теперь он в этом убежден — на лице женщины было написано отчаяние. Разорванная зеленая кофта... и эта грудь с голубой жилкой... До чего же молода была эта женщина! И какая красивая!.. Это она упала у него на глазах? Поскользнулась в кровавой жиже, заливавшей, словно пена прибоя, всю улицу, от тротуара до тротуара, и упала? Нет, не она... Пожалуй, не она... Жильбер отнимает руки. Он видит улыбающееся лицо Франсины. У нее на коленях мурлычет, тихо помахивая хвостом, зеленоглазая кошка. Матильда вышла к ребенку, Хосе составляет посуду в раковину, Жорж подошел к окну. Он ждет двуколку с фермы, чтобы поехать в здание суда. Опершись на трость, он неторопливо курит. Косые лучи солнца падают двумя полосами на красный песчаник пола. Кажется, будто вся природа вокруг уснула, изнуренная жарой. «Вот он — подлинный мир, —думает Жильбер. — Боже мой, мир!..» Он повторяет про себя: «Мир», стараясь всеми силами зацепиться за эту мысль, но ему не удается в это поверить.
— Если вы будете слушать передачи из Англии, — говорит Жорж, — я прошу вас закрыть окна, двери и, по возможности, приглушить звук. Впрочем, вы ничего не услышите — так много помех, передачи забивают, и вообще кому все это нужно!
— Я хочу посмотреть на Клоди, — говорит Жильбер.
Он берет дочь на руки. Она смеется, лепечет, глазенки блестят, от волос пахнет лавандой, розовое личико своей свежестью и бархатистостью напоминает персик.
«Конечно, ребенок был мертв, — думает Жильбер, — это было написано на лице той женщины».
Спрятав руки в карманы старого пальто, Луи Валлес ждет у двери своего дома, топчется в грязи.
— Черт побери, до чего же быстро наступила зима!
Жильберу нравится, как он ворчит. Он знает, что Луи может все стерпеть, но ему надо поворчать.
— Экая грязища! И эти ботинки, которые ни на что не годны! А дорога — мерзость одна! —Затем, смягчившись, он спрашивает: — А Матильда? Что она сказала?
«Ну вот, — думает Жильбер, — как только он начинает говорить о Матильде, у него совершенно другой голос и тон другой. И когда только он перестанет ее любить?»
— Матильда согласна. Она говорит, что можно рассчитывать на Гоберов и их дочь.
— А Жоржу она сказала?
— Нет, Жорж ничего не должен знать. Он в хороших отношениях с оккупантами, а это нам только выгодно.
Луи нащупывает в кармане окурок, пытается закурить, обжигает пальцы и, выругавшись, бросает спичку.
— О господи, что за пакость! Матильда сама так сказала?
— Да, это ее слова.
— Значит, она ничего ему не говорит, абсолютно ничего? Но ведь он же ее муж!
— Именно потому, что она знает его взгляды, его отношение к разным вещам, знает, как он малодушен.
Луи перестает топтаться, он стоит неподвижно. Окурок, приклеившийся к его губе, погас. На дворе ночь, но Жильбер прекрасно знает, какое в этот момент у его друга выражение лица: глаза удивленно расширены, окаймленный черной бородкой рот приоткрыт, длинные вихры взъерошены на висках. Он взволнованно и недоверчиво трясет головой.
— Словом, она знает про низость Жоржа. Она лжет ему, так как ничего не говорить — это значит лгать, и в то же время любит этого человека!
— Не уверен, — говорит Жильбер. — Я сам постоянно задаю себе этот же вопрос: может ли Матильда любить Жоржа?
— Она любит его, — уверяет Луи, — любит, но вот за что? Что нашла она в нем, в твоем брате? Она, у которой столько достоинств: и мужество, и ум, и преданность, и доброе сердце. Как может она любить этого толстого вялого мещанина, ворчливого, до глупости надменного, эгоистичного, да еще в придачу калеку? Извини меня, я знаю, он твой брат, и я, возможно, преувеличиваю, но что ты хочешь — любовь Матильды к Жоржу... Я не перестаю спрашивать себя... Я мог бы разбить голову о стенку, пытаясь найти ответ, но не нашел бы его.
Жильбер кладет руку на плечо своего друга.
— Значит, все, что мы пережили, все, чем мы живем сейчас, — ничто не помогло тебе забыть Матильду? В мире так много женщин, которые заслуживают любви.
— Я пытался, — почти шепотом говорит Луи, — но не мог найти ни одной, которая была бы так красива, исполнена такого благородства... — И, внезапно разозлившись, добавляет: — И так преданна! Никогда она не обманет своего хромого!
— Не называй его, как Хосе, — улыбается Жильбер.
Они вдруг слышат позади приближающиеся шаги, скрип колес.
— Это я, господин Жильбер, — шепчет работник с фермы, — все у меня в двуколке. Похоже, все спокойно, можно послать мальчонку, он здесь со мной.
Хосе, словно тень, возникает между Жильбером и доктором.
— Я знаю, где находятся товарищи, — говорит Хосе, — пойду предупрежу их. Если кто появится на дороге, я включу карманный фонарик, и вы спрячетесь.
— Ладно, иди, — говорит Жильбер.
Хосе уходит. Некоторое время слышно, как он шлепает по грязи, затем наступает тишина. Гобер вынимает трубку, но не осмеливается закурить — он ждет.
— Я погрузил все, что смог, — поясняет он, — эти негодяи снабженцы, они все подсчитывают. К счастью, стадо пересчитать трудно, и они иногда ошибаются. К тому же, я им ввернул про болезнь. Сказал, например, что у одной козы был выкидыш, пойди найди козу, у которой был выкидыш. И еще добавил про мальтийскую лихорадку! Таким путем я у них из-под носа утянул двух козлят. Они хотят взять на анализ молоко, а пока суд да дело, будем пить его мы и козлята. Внимание, а вот и малыш возвращается.
Хосе запыхался.
— Можно идти, — шепчет он, — грузовичок на дороге. Ребята приехали, чтобы помочь нам.
Позади Хосе слышатся шаги и шлепанье башмаков по грязи. Затем несколько силуэтов смутно вырисовываются в ночной темноте. Гобер толкает свою двуколку на дорогу.