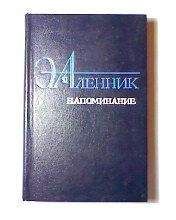«Он там и лежит. Принести?»
«Не надо», — сказал Алексей Платонович и одним зубцом вилки вытащил из-под низу целенькое, мягонькое, как кисель, семечко.
Я догадалась: вот оно что. Это он для операций. За обедом — и то для операций.
Через четыре дня привезли маму. Она была слабая, легла… Но все-таки ей лучше, чем до больницы, не больно. Она всему радуется: и что меня видит, и что опять она дома, и что, когда у нее снимали швы, она разглядела, какой у нее на животе тоненький, чистый шов, потому что все прошло без малейшего нагноения.
Скоро мама начала вставать, потом — ходить по комнате, потом выходить на недалекие прогулки. Когда ее навещал Алексей Платонович, она его благодарила за операцию, каких никто никогда здесь не делал. Она так благодарила, что опять мне хотелось реветь. А он хмурился. Наверно, его каждый день столько благодарят, что ему надоело слушать.
Когда перед отъездом он пришел прощаться — потому что да, они уезжали, все вместе, все-все они уезжали! — папа был в училище, мы с мамой сидели на скамейке возле дома, и Алексей Платонович ни за что, как мы ни приглашали, не захотел зайти в дом, а сел на скамейку рядом с мамой.
Он немножко посидел, поспрашивал, как она себя чувствует. Мама отвечала, что очень хорошо, нигде у нее и не думает болеть.
Он помолчал. Потом говорит:
«Простите меня. Я вас не вылечил. Не удалось сделать так, как предполагал. Время от времени вам будет больно».
И он объяснил маме, что ей надо делать, что ей надо есть, чтобы меньше ее мучили боли.
«Вас может спасти и то, что вы крепко держитесь за жизнь, а еще крепче вот за кого, — он нацелился в меня пальцем и чуть-чуть дотронулся. Надеюсь, мы еще встретимся, если не здесь, то там», — и посмотрел на землю, как будто увидел в ней что-то глубоко-глубоко.
И он поцеловал маме руку.
Когда мама была здорова, он никогда так не делал.
Все знакомые целовали ей руку, а он пожимал. Оттого, что теперь он поцеловал, мне стало страшно, что мама умрет.
Мне долго было страшно. Очень долго… А она дожила до старости, хотя боли ее мучили часто.
Мы посидели тогда на скамейке… и больше я Алексея Платоновича не видела. Жизнь сложилась так, что не пришлось встретить ни его, ни Варвару Васильевну, ни Аню, ни Саню. Никого из них — ни разу.
Слушая этот рассказ, трудно было оторваться от живых, на редкость выразительных детских глаз. Но вот рассказ окончен, над детскими глазами седоватая челка. На худеньких детских руках — кожа в морщинах.
И перед нами — вся с головы до ног легонькая, прямая, полная энергии шестидесятилетняя женщина, археолог.
В Средней Азии любители старины ее называют спасительницей мечетей или того больше — спасительницей красоты.
За время рассказа она ни разу не присела, а сейчас прислонилась к полкам, битком набитым кусочками обломков узорной облицовки мечетей и медресе, кусочками великолепия, которое разрушается и его надо восстановить, а для этого найти состав клея, чтобы не на три дня, не до первых дождей, а на долгие годы он склеил глазурь древности с новой глазурью; и надо найти состав кладки и краски, чтобы незамутненная голубизна древних куполов была в местах обвала и пробоинах заполнена новой немутнеющей голубизной.
— А когда удается найти такой состав, очень трудно добиться, чтобы его применили, — говорит седая спасительница. — Клеют — отваливается, и снова клеют не тем, чем надо.
Она уже показала нам много разноцветных узорных обломков, уже заразила нас своим беспокойством.
Видите, и здесь нельзя без совместности. Без нее — площади обвалов и выбоин расширяются, без нее — рушатся купола.
Но вот мы уже прощаемся. И в прихожей, отворяя дверь, она говорит:
— А все-таки я до сих пор не могу простить Алексею Платоновичу, что он тогда не испугался. Мы чуть не утонули, а он — ничуть не испугался!
И снова у нее быстрые, озорные глаза той девочки.
— Теперь давайте сразу двигать сюжет дальше, без всяких ваших личных размышлений, — рекомендуют готовые не покладая рук помогать автору.
— Послушайте, — советует им кто-то из молодых, — отдохнули бы вы наконец, поберегли свои драгоценные силы.
А пишущий человек сидит перед чистым листом бумаги, собирает свои усталые силы и почему-то все же с размышления начинает новый эпизод.
ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ
О правоверном узбеке и шайтане Хирурике
Следы, следы… Иногда их находишь не там, где ищешь.
Какая надежда была в Ташкенте на обещанное по телефону прославленным академиком:
— С удовольствием поделюсь воспоминаниями об этом ярком человеке.
А встретил академик дежурной учтивой улыбкой, раздвинув для этого губы на два миллиметра, не больше, чтобы не потревожить свое крупное холодноглазое лицо, как бы заживо бронзовеющее в лучах славы.
— Я не только знавал Алексея Платоновича. Я его высоко ценил. Я его любил. Мы познакомились с ним, когда я был молод. Я начинал тогда изыскание совершенно новых методов подхода к разработке исторических…
И — пошел рассказ на полтора часа не о Коржине.
Пошел показ томов своих трудов и пространных статей о себе, из коих видно, как высоко оцениваются эти труды.
Ни прервать, ни прорваться сквозь этот поток.
А там — пришла машина, пора на совещание. И опять раздвигаются губы на два миллиметра и:
— До свидания! Всемерно приветствую интерес к этому замечательному человеку, буду рад держать в руках книгу о нем.
Ташкентские студенты рассказывали, как этот академик произносил речь у гроба другого академика. Началась речь с того, какой тесной дружбой и тесной работой он был связан с ныне усопшим. И как он делился с ныне усопшим своими идеями и своими открытиями.
Он напомнил пришедшим на панихиду, в том числе вдове и детям усопшего, какой ценности были открытия и какая точность предвидения была в тех идеях, которыми он делился. Так пространно, так панихидно возвышающе он говорил о своих заслугах, что кто-то отчетливым, до многих долетевшим шепотом спросил:
— Простите, а кого из них мы сегодня хороним?
Вот что иногда находишь там, где ищешь след, казалось бы, такой надежный, солидный, академически добротный след…
Но бывает и так. С грустным внутренним смешком от неудачи, надеясь только на пищу телесную, заходишь в один из ташкентских продуктовых магазинов, бредешь вдоль прилавков и вдруг замечаешь, что все двери уже закрываются, и спешишь к ближайшей, которую запирает молоденькая узбечка в белой накрахмаленной шапочке, и просишь:
— Выпустите меня, пожалуйста.
Девушка вдруг игриво спрашивает:
— Зачем выпустить? — и смуглой рукой прикрывает замок. — Пообедать с нами разве не хотите?
— Спасибо.
— Зачем «спасибо» до обеда? — Она отпирает дверь и смеется, просто так, от избытка радости в организме.
Медлишь. Чем черт не шутит, спрошу:
— Скажите, у вас есть дедушка?
— Один, совсем хороший, умер. Один есть. А что?
— Вы никогда не слышали, чтобы он вспоминал о хирурге Коржине?
— У него ничего не болит, зачем ему вспоминать о хирурге?
На лице девушки недоумение и любопытство, и тут же ее осеняет:
— О-яй! Если это тот, про него знает Майсара.
Девушка бежит за прилавок, кричит куда-то за перегородку, в дебри магазина:
— Выйди, Майсара!
Слышится недовольное:
— Срочно вино надо? Зачем впустила?
— Не надо вино, надо сказать!
Выходит продавщица, такая же молодая, но уж так хороша, что улыбок не расточает.
— Вот им скажи, Майсара. Тот, про кого твой дедушка объяснял нашему Хамиду, как его фамилия?
— Когда объяснял?
— Ну на праздник, седьмой ноября, когда смеялись.
— А-а, знаю про кого.
— Ну-ну, как зовут, как была фамилия?
— Дедушка говорит: имя было Хирурик, и фамилия была Хирурик.
— Я вас прошу, Майсара… Познакомьте меня с вашим дедушкой. Он не слишком слаб, не откажется?
— Дедушка слаб? — удивляется Майсара. — Это у меня от невроза голова болит. У него голова не болит, нет невроза. Зачем он откажется? У нас от гостей не отказываются. У нас гостей уважают.
На другой день — плодоносный двор. Чистая, твердая земля. Нигде ни соринки, ни крошки. Посреди двора — виноградный навес. Висят кисти крупного, дымчато-розовеющего винограда живописной и ощутимой сладоети.
Под навесом — резной старинный столик. По одну его сторону — топчан, покрытый старым текинским ковром, по другую — два кресла последней моды.
В кресле — дедушка Майсары. Он поднимается, идет навстречу… Черно-белая узбекская тюбетейка кажется приросшей к голой голове без малейшего намека на прежнюю линию волос. Лоб?.. Как теперь определить, большой он или маленький? Глаза, вероятно темно-карие, выцвели до желтизны. Над ними свисают длинные белые волоски бровей. Такие же белые усы и клинышек бороды. Стеганый полосатый халат прячет сухое, стойкое тело дедушки. Он весь — как изюмина, по которой догадайся, пойми, какой была виноградина… Но эта изюмина смотрит и, кажется, видит тебя насквозь.