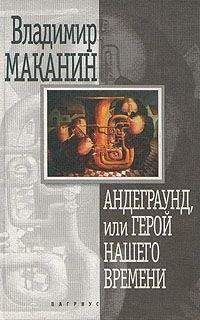Но перед действом выноса я положил их, отказы, один на один. Вместе с черновиками повестей получилась кипа бумаги в мой рост. Мы в ту минуту как бы общались: автор, повести и отказы. «Я — другой», — сообщил я баском рослой кипе бумаг. «Я антиконцептуален», — сообщил я. Кипа бумаг, покачиваясь в предуличном (в предпирожковом) волнении, смотрела на меня. Кипа хотела остаться.
А в одном из самых либеральных журналов еще лежала последняя моя повесть, надо забрать! К тому времени прошел уж год, срок для прочтения более чем достаточный, однако в редакции, вместо того чтобы выдать очередной отказ, мне сказали: рукопись на отзыве.
Я засомневался. Что-то тут нечисто. (Такое затяжное чтение. У кого?..) Нет, назвать имя они не могли. Редакционная тайна. Автор не может, да и не должен знать. Иначе на рецензентов давят. А-а, иначе им взятки дают, сказал я улыбаясь и, конечно, с иронией. (Я бы сто раз дал взятку, если бы взятка значила.) В том и тайна необъяснимой, тупой, метафизической непробиваемости брежневских времен — взятки в редакциях не значили! деньги не значили, подарки не значили, талант не значил и даже вечная валюта, женская красота поэтесс почти не значила... Все было дешевкой. Пять копеек. Хорошо, сказал я, фамилию рецензента вы мне назвать не можете (понимаю), но назовите, подскажите мне число или хоть месяц, когда рукопись отправлена рецензенту на отзыв. Число — дело конкретное. Число — дело чистое. Почему бы вам не назвать число?.. Да, сказали они. Разумеется, сказали. Сейчас назовем. Теперь им пришлось поискать на столах уже всерьез. И выяснилось, что рукописи нет.
Ее не существовало. То есть числиться-то она числилась — вот дата, вот название, автор принес, зарегистрирована, но живьем рукописи нет. Даже и с каким-никаким отказом вернуть автору было нечего.
Искали вновь — призвали в помощь секретаршу, младшего редактора, прибежал взмокший курьер, а затем (моя минута!) появилась умная и влиятельная Н., известная своим свободомыслием в московских литературных кругах, — приятная лицом и манерами женщина. Та самая Н., теперь она работала в этом всем известном журнале и была уж немолода. (Мы оба стали немолоды, пятнадцать лет отказов!) Под ее бдительным приглядом были просмотрены шкаф за шкафом, ящик за ящиком.
Н. время от времени мне повторяла:
— Не волнуйтесь. Присядьте. Мы найдем... — Обыскали решительно все. Рукописи не было. Посовещались. Я ждал.
Влиятельная Н. наконец объявила мне, что рукопись, конечно же, на рецензии и она, пожалуй, даже припомнила, у кого именно (но назвать, конечно, не может, на рецензентов давят) — так что мне следует еще чуть подождать и позвонить лично ей через две, скажем, недели. Я кивнул — ладно. Я повернулся, чтобы уйти, уже двинулся к дверям, как вдруг один из младших редакторов, вдохновленный несомненно свыше, сказал неожиданные слова. Он произнес медленно, в меланхоличном раздумье: «В шкафах нет. За шкафами нет. А на шкафах смотрели?..» — принес стремянку, сам же с ловкостью юнца взобрался и достал из десятка залежавшихся там рукописей мою в немыслимой паутине. Паутина лежала слоем, мощная, густая. А сбоку, где завязаны тесемки, слой лег совсем недавний: паутинка нежная, меленькая и кудрявенькая. И — никогда не забыть! — там, в кудрявенькой, притаился встревоженный маленький паучок, живое существо, кого заинтересовали тексты.
Я машинально обмел, обтер папку рукой. Оглаживал края. И, помню, замер ладонью, не зная, как быть с паучком.
Сотрудники тем временем выясняли, почему и как случились неотрецензированные нашкафные рукописи — кто-то винил, кто-то припоминал, кто-то оправдывался. А сама Н., милая лицом и в гневе, строго распекала младших. Я сказал Н., что забираю рукопись. Нет, ждать не стану. Нет, никаких отзывов не надо. Они все, чуть не греческим хором, меня уговаривали, но я уже не слушал — я бережно снял паучка, отторг вместе с частью его теплой паутины и на ладони, осторожно поднимаясь шаг за шагом по стремянке, перенес его на шкаф, место постоянного пребывания. Когда я спустился, Н. мне объясняла:
— ... Убеждена. Я убеждена, я помню, что рукопись была на рецензии. Она как раз вернулась от рецензента.
— Не верю, — я покачал головой.
— Да, да. Рукопись вернулась. И рецензент отметил, что повесть совсем неплоха. Но автору надо...
Я коротко повторил — нет, уже не верю. И, снимая с рукописи последние паутинки, пошел к выходу.
Я уходил по коридору. Вслед, в спину мне (Н. за мной поспешила, но не догнала) неслись ее вещие слова. Она кричала:
— Верьте мне. Верьте!..
Не забыть ее голос. Искренний, взволнованный, готовый меня и мои тексты любить, бессмысленный крик из пустоты в пустоту.
Мне сто раз отказывали, но этот раз был последний и особенный, благодаря удивительному ее крику. Сам мир людей, наш огромный человечий мир, кричал и умолял ее голосом, просил меня поверить, что не пришел мой час, не пришло время моим текстам. Они, люди, просили. Они, люди, винились — они пока что ничего не могли.
Не стоило и носить рукописи — ни эту, ни другие. К каждому человеку однажды приходит понимание бессмысленности тех или иных оценок как формы признания. Мир оценок прекратил свое существование. Как просветление. Как час ликования. Душа вдруг запела.
Казалось, человек все еще шел по коридору (я шел по долгому коридору жизни) — шел к свету, который узнал издалека. Ни носить рукописи, ни создавать тексты уже необязательно. А сзади (чтобы я не забыл свое открытие-откровение) мне кричали. Все длился, звучал в ушах крик:
— Верьте мне...
Следовало знать и верить, что жизнь моя не неудачна. Следовало поверить, что для каких-то особых целей и высшего замысла необходимо, чтобы сейчас (в это время и в этой России) жили такие, как я, вне признания, вне имени и с умением творить тексты. Андеграунд. Попробовать жить без Слова, живут же другие, риск или не риск жить молчащим, вот в чем вопрос, и я — один из первых. Я увидел свое непризнание не как поражение, не как даже ничью — как победу. Как факт, что мое «я» переросло тексты. Я шагнул дальше.
И когда после горбачевских перемен люди андеграунда повыскакивали там и тут из подполья и стали, как спохватившись, брать, хватать, обретать имена на дневном свету (и стали рабами этих имен, стали инвалидами прошлого), я остался как я. Мне не надо было что-то наверстывать. Искушение издавать книгу за книгой, занять пост, руководить журналом стало лишь соблазном, а затем и пошлостью. Мое непишущее «я» обрело свою собственную жизнь. Бог много дал мне в те минуты отказа. Он дал мне остаться.
Тысячи нынешних мелких и крупных (теперь вовсе бесцензурных) журналов и издательств уже ничего для меня не значили — отзвук длящегося абсурдно-потустороннего крика: «Верьте мне — верьте!..»
Даже в бомжатник, с вьетнамцами на первом этаже и с крысами на всех остальных, меня пустили на одну только ночь. (Выбросили со своего вонючего склада мой чемодан. Отнесу на Курский.)
У Михаила зацепиться не удалось: в его квартире проживал целый выводок, кто раньше, кто позже, уезжавших в Израиль наших людей (на этот раз даже отдаленно не похожих на евреев). Разумеется, помочь отъезжающим в их хлопотах и бедах — дело благое. Иногда Михаил звал меня, мы оба помогали им снести в Шереметьево чемоданы и малых детей.
— Не останешься? — спросил Михаил.
— Нет. — Если считать с детьми, этих перевозбужденных евреев, со славянскими и мордовскими физиономиями, крутилось в его двухкомнатной человек десять-пятнадцать. Как бы Михаилу самому вскоре не пришлось искать, где ночевать. Отъезжающие — его крест.
К Зинаиде или к кому-то еще не смог даже заглянуть. На час и то в общагу-дом меня не пустили. Не походил, не подышал даже пылью моих коридоров, где так долго сторожил и жил.
Помимо прочего, там стали опасаться воров (веяние времени) — на входе соорудили длинную дубовую стойку, а за ней посадили, плечо к плечу, сразу двух вахтеров, бывших солдат-афганцев в грозной пятнистой форме.
Один из них мне и пригрозил кулаком — не пропущу, не суйся!..
Денег было совсем мало — копейки.
Я пробовал; я искал. Курский вокзал, ничего иного для жизни пока что не нашлось. (Снес в камеру хранения машинку, чемодан с бельем.)
Я проснулся (в полувьетнамском бомжатнике) с нехорошей мыслью, что время вышло, что койка на одну только ночь и что надо теперь уходить.
Уходить в ничто и в никуда, когда тебе 55 лет, — не так просто. Когда тебе 55, не хочется думать, что начинаешь опять с нуля. И мысль, что ты антиконцептуален, не становится, увы, опорой и утешением.
В гнусном этом бомжатнике тоже сидел теперь на вахте бывший вояка — бравый парень в пятнистом. Зевнув, он повторил, что мне была разрешена всего лишь одна ночь: больше здесь не появляйся, понял?.. — Он еще разок зевнул. (С ленцой возвращал мне паспорт.)