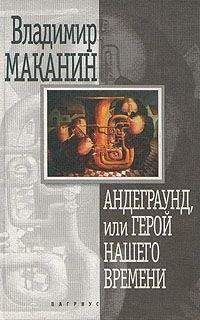Старуха уже поняла. «И не штыдно объедать убогих?»
Я молчал.
— Не штыдно?
Я сказал, ладно — к вечеру уберусь. Только пообедаю.
Старуха:
— Седой уже!..
В нелучший мой день я встретил в переходе метро Эдика Салазкина — мы почти столкнулись.
— Приве-еет! Привет, старый Петро-о-вич!.. — Улыбка у Эдика действительно уже устоялась: великолепная, чудесная и добрая профессиональная улыбка. (Единственное, чему он научился у практикующих народных лекарей. Улыбка, чтоб доверяли.)
Нет, нет, я не поверил всерьез, что Эдик своими разлапистыми руками исцелит мои кишки. Я не поверил, я не мог поверить, а тем не менее поддался: ведь господин Салазкин лечил людей диетой. Ведь он мой старый приятель. И обещал, что будет кормить. И как-никак теплый угол. Конечно, не следовало соглашаться. Но мой кишечник после психушки (после расслабляющей вонючей ниши в Первой палате) нет-нет и вспыхивал остаточной воспалительной болью.
Когда-то я общался с талантливыми экстрасенсами и до сей поры кое-что знаю от них. Умею, к примеру, при резком похолодании избежать вспышки старых залежавшихся болезней. Умею при голоде сохранить свежую голову и интенсивно читать. Но талантливые, как водится, иные далеко, а иных уж нет. Либо перемерли, либо стали известны, денежны, уже не пробиться, талант редкость, а Эдисон Салазкин (как он писал на визитных карточках) — вот он, рядом. Мы ехали с ним в метро с полчаса. Эдик выпятил грудь — в темном окне покачивался еще один (отражающийся) Эдик, в руках претенциозный кейс, с надписью, которую я читал в зеркальном вывороте букв: Бангкок. Я все про него знал, а вот ведь поддался.
Кормил он скромно, но и пост в те дни был бы мне в радость, если бы Эдисон не душил меня толченой яичной скорлупой перед каждым сухариком. Не знаю, чего он ждал? Мои боли (постпсихушечные, я звал их сесешины боли) во взрывающемся кишечнике не только не прошли, но участились. Я съел столько скорлупы, что весь произвестковался. Поутру во мне скрипело, едва я поднимал кверху руки или шевелил ногой. А потом пошли внутрь капли — темные, черные, похожие на нефть. По четыре. По восемь. По двенадцать. Считалось, что капли меняют больному настрой души.
Я, увы, не сдерживал язык. Эдику не нравилось, и после каждой шуточки я перехватывал его озленный взгляд. А тут еще открылся понос, притом сильнейший. Эдик тут же перестал давать свои фирменные лекарства. Эдик притих. Как ни меняй кальцием и черными каплями настрой души, такой понос не прекратится, было ясно. (Я вспомнил Сесешу — тоже ведь меняли душу.) А когда через день-два стало совсем плохо, меня несло с кровью, — Эдик напугался. Он не мог теперь сдать меня врачам. Врачишки тотчас станут его, знахаря, винить. Еще и прихватят его заодно со мной в карантинную больницу (подозрение на холеру всегда и всем опасно).
А вечером мой промах: не успев дойти до сортира (головокружение, слабость), я надристал в его любимый лекарский таз, емкость для священнодействий — тазик, с тонко начертанной на металле миллиметровой дозировкой. Эдик не снес. Ему почудился умысел. Шатаясь, слабеющим голосом я за тазик извинился, но тут же обронил мою шутейную присказку, которую Эдисон и в лучшие-то времена не любил услышать:
— Что поделать, Эдик. Если спят боги, не помогут йоги.
— Ты бы в психушке им это объяснил! — окрысился Эдик.
А я пошатывался. Стоял возле его замечательного тазика и шатался туда-сюда. Я ничего не имел против йогов, я лишь сожалел, что, в профессии заматерев, Эдик, увы, так и остался бездарным. Помолчали. Мы ведь, и правда, не знали, как быть с длящимся кровавым поносом — ни он, ни я. Эдик был зол. Для него дело становилось подсудным. Ушел кому-то звонить. Такое бывает. (Житейский случай вдруг оборачивается черными днями для обоих.) Вероятно, тогда же, втайне постенав, Эдик решил от меня избавиться. Избавиться, как можно скорее. Возможно, ему посоветовали. К этому времени, кроме знаменитого тазика, я еще ему кой-куда наделал. Но ведь жмот не купил в первой попавшейся аптеке судна, а я уже не держался на ногах; я падал.
В те дни и появился (в городе Москве и на этой чинной Эдикиной улице) — вместе с Вик Викычем — некто Леонтий, веселый сорокадвухлетний мужик, инженер из Костромы. Он был как раз из тех, кто временно (перевалочный пункт) жил сейчас у Михаила: отбывал из Москвы в Израиль вслед за уже свалившей туда своей женой (с вещами и с маленьким сыном). Квартиру Леонтий продал за валюту и был при хороших деньгах, которые тратил теперь на радости жизни. Как все провинциалы, Леонтий любил Москву и побаивался ее. Как все прощающиеся, он был мил и забавен. Чуть что и повторял в оправдание своему нечаянному загулу:
— А ностальгия?!.
Михаил в те дни болел (как и я, осень нас умучала) — он не вставал с постели и потому препоручил отъезжающего провинциала Викычу.
Бывалому Вик Викычу предстояло дружески с Леонтием пообщаться (нет проблем!) и через день-два проводить его в Шереметьево, по караванному пути ищущих счастья евреев. Но загуляли. День-два обернулись в семь-восемь. И еще одно. В отличие от жены и сына, уже уехавших, Леонтий на страну обетованную как бы не имел морального права по составу крови. Поэтому перед самым отъездом, уже в Москве, он наскоро обрезался. Он стал Хайм. «Я думал, буду Леон!» — ухмылялся он. Чтобы отбыть в Израиль (объяснил Михаил), было вовсе не обязательно так уж строго соблюдать. Но провинциальный костромской мужичок решил сделать здесь по всем правилам, чтобы там евреи к нему не вязались и лишнего не говорили! — «Я люблю, чтоб все было в порядке. Паспорт. Билет. Виза. Член», — объяснял Леонтий в день несложной операции. Но уже на другой день он тоном оскорбленного уверял, что теперь у него навеки будет комплекс спешно обрезанного. Он боится сесть нога на ногу. Он боится сунуть руку в карман. Он даже не уверен, как он теперь будет спать с женщиной. Обманули! солгали! а ведь намекали, что ерунда и что это всего лишь, как время от времени поточить карандаш.
Хорошая выпивка, как он уверял, только и могла его психику теперь уравновесить — Вик Викыч и Леонтий пили. На той чинной улице они брали водки и вина, и Леонтий-Хайм шумно ликовал при виде каждой незнакомой ему яркой наклейки.
Они разыскали меня после долгих расспросов; да и то случаем. Они просто наткнулись на улице.
А я погибал.
— Что? Что делать?.. Я погиб! Я погибаю! Что мне с ним делать?! — кричал в телефонную трубку Эдик Салазкин. (Он считал, что это он погибает.)
Кричал он опасливо, истеричным шепотом. Испугавшийся самодеятельный врач.
Скрючившийся в постели, я слышал лишь отдельные всплески его телефонных стенаний. Понос уже затуманил мои мозги. Позыв за позывом изнуряли, в голове жар, высоковольтный гуд, а что было делать? Эдик, слава богу, уже не лечил. Эдик уже все про себя понял, нервничал, спрашивал других, но и другие боялись теперь ему помочь даже советом (означало бы их соучастие в деле). Но как? — кричал шепотом он в трубку. — Как же мне быть?
Как было ему, бедному Эдисону, выйти из этой чудовищной ситуации и как, каким образом избавиться от едва дышащего болезненного говнюка (от меня)? Один из знахарей все же рискнул и приехал. Он покашлял инкогнито в прихожей, заглянул с расстояния и (не подойдя к моей кровати, осторожный) сообщил своему другу Эдисону, что ему очень не нравятся мои стоны. «Да он же умирает!» — прошипел он на ухо, напугав и окончательно лишив Эдика рассудка. Избавиться — но как?
Необходимо было найти в помощь кого-то, кто (вот главное) про этот жуткий эпизод тут же и навсегда забудет. Эдик нашел. И довольно быстро. В панике господин Салазкин попросту сговорил двух алкоголиков у входа в винный магазин (или в мебельный, тоже недалеко). За привычную мзду, за бутылку. Сказал им, что бродяга пришел, бомж, его приютили, а он теперь не уходит — выкиньте засранца, загадил нам все жилье! Может, он и не говорил, что бродяга, бомж, а просто сказал — выкиньте засранца. И те выкинули.
Когда они пришли, я был в беспамятстве. Однако, как ни безнадежно болен человек, если его выносят, он не хочет, он ропщет. (Инстинктивное цеплянье за место как жизнь. Как нежеланье уходить в могилу.) Потревоженный больной (выносимый вон несчастный) вдруг все видит, все понимает. Свет вокруг становится режуще белым. Сознание в такой миг проясняется, и человек проклинает. Так проклинал и я.
— Сука! Врачишка! Подонок! — хрипел я, задыхаясь. (И уже слыша подступающие корчи в желудке. От голосового напряжения.)
Он молчал.
Правда, гонял желваки. Было совестно. Избавиться от меня была его единственная возможность не попасть под запрет и сохранить практику экстрасенса, а с ней лицо, а с лицом какой-никакой статус. Непростое решение. В самый пик, в середине жизни сорокалетний Эдик Салазкин уже не мог (и не хотел) искать новую хлебную профессию. Неталантливый, он уже не сумел бы начать снова.