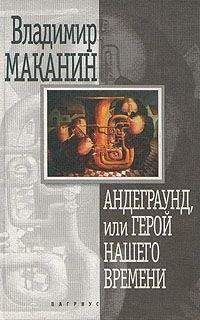А когда на возвратном (от Зинаиды) коридорном пути я еще и остановился с Курнеевым покурить-поговорить, сигаретный дым выжал из меня маленькую живую заслепившую слезу.
Курнеев Петр Алексеевич сам приостановился.
— Кого я вижу?! Привет, — он сказал без особой радости, но и без общажной настороженности. Как своему. Мол, жизнь-то идет, а мы с тобой все курим. Держи сигарету.
Своя есть, ответил я. Чиркнула спичка. Вот тут я вновь прислонился плечом к стене. От слабости. И от живой слезы в глазу.
А дальше понятно: дальше я не смог удержаться и отправился на знакомый этаж. Да ведь старый Петрович уже и обязан был оглядеть квартиру господина Ловянникова.
Одно из окон закрыто небрежно. Разве так уезжают! — ворчнул я, подгоняя шпингалеты. Кресло. Скучные бухгалтерские книги на полках. Я огляделся. Знакомый холодильник. Я у себя. В свое время я брал в этом холодильнике на подкорм пса (да и сам откушивал) отличной квашеной капусты. Добавка в рацион.
А вот и Марс! Привет! — я поднял глаза на настенный портрет пса. Комната (узнавание) сразу озарилась радостью. Как вспышка. Но светлая радость узнавания поползла от меня вдруг в стороны, как ползет в обе стороны мокрая бумага... я пошатнулся. Закапало красным на руки. Не беда. (Кровотечение. Носовое.) Я добрался до постели, лег. Повыше голову... Лежал, испытывая попеременно то пугающую радость, то слабость.
Мы свели с Ловянниковым знакомство, когда еще не дог, а дожок, дожик, как там правильнее — когда Марс еще был щенком. Ловянников уехал, оставив мне квартиру и предупредив, что воинственность щенка пока лишь в его звучном имени и что кости хрупки, задние лапы особенно; когда прогуливать, надо сносить с крыльца на руках. Я так и делал. А в лифте, в коридоре быстро растущий элитный пес уже сам все знал — не лаял.
Помимо любви к меньшим братьям, меня в те дни грело еще и то, что Ловянников оценит, дог вырос без переломов, — попомнит и, глядишь, вновь оставит сторожить (жить) свои кв метры. Мне нравилась эта однокомнатная. Небольшой балкон. И вид из окон. (Не гнусный в любую погоду.) Книги в основном бухгалтерские, специальные, но есть философские томики. (Хозяин как-то процитировал Бердяева, в другой раз Фромма. Нормально.) Вскоре же Ловянников оставил мне жилье на месяц, а потом и на полтора-два, так повелось.
Уезжая, Ловянников теперь забирал Марса с собой. Мраморному догу уже года три. Могучий. (С дурной привычкой при встрече лизать меня в губы, в рот.) Портрет Марса на стене мог наводить упреждающий страх на жулье (имелись в виду наводчики, Ловянников улыбнулся), — пусть, пусть видят! Когда есть рисунок, возможен и оригинал.
— А Леонтий? — поинтересовался я.
— Отли-ии-ично!
Вик Викыч уверил, что догуляли отлично, проводы честь честью. А Леонтий, мол, и похохатывающая Люба Николаевна были все время в челночном движении: нет-нет и уходили к Любе домой (поднимались куда-то на девятый этаж) и потом возвращались, чтобы продолжать пить. Леонтий, правда, жаловался на слишком недавнее обрезание. Оттуда (с девятого этажа) Леонтий каждый раз появлялся первым и кисло (и тихо, шепотом) сообщал Вик Викычу на ухо одно и то же — мол, это надо делать все-таки в детском возрасте. Но от Любы Николаевны (текстильщицы свое знают) Леонтий был в восторге. Память о ней останется с ним до конца дней. Увезу вместе с синими снегами России! — обещал он.
Дошло и до драки, когда Вик Викыч и Леонтий отправились еще и к некоей Равиле, а у Равили своя гулянка и свои мужики, грузчики. (Неприветливые! то ли водки мало, то ли просто жлобы.) Вик Викыч, если пьян, побузить любил, и как раз с улицы подвалило полбригады грузчиков, пришли с работы. Они были немыслимо широки в плечах. Люди-шкафы. И самый здоровенный шкаф был их бригадир, он-то, ни слова не говоря, для начала двинул Леонтия, так что тот улетел к другой стене; не поломался Леонтий только потому, что врезался в визжавшую Равилю. Викычу объяснять дальше было не надо, он в свою очередь ударом кулака свалил с ног бригадира. Да и Леонтий, пришедший в себя, высвободив русы кудри (Равиля вцепилась в волосы и держала), закричал: «Я на ногах, Викыч! Давай им врежем!..» — и тотчас, кулаки вперед, пробился (с восторженным криком!) к последнему здесь, в России, другу. Как всякий провинциал, Леонтий подраться умел; они с Викычем дрались спина к спине; но двое, увы, это только двое.
Оба вернулись к сестрам сильно побитые, но как-никак на своих ногах — и оба как-никак еще пили! Равиля, чтобы замолить драку и чтоб без последствий, прибежала к Маше и Анастасии плача и держа в руках (как-никак!) четыре бутылки водки. Вик Викыч и Леонтий еще пили, когда в окнах забрезжило, а снизу нервно засигналило у подъезда заказанное в аэропорт такси.
Леонтий-Хайм был в пластырях и с огромным фингалом под глазом; его не хотели пустить в самолет. (До такой степени побит.)
Уже на паспортном контроле Леонтию дали понять, что он неузнаваем и что у них нет возможности удостоверить личность отъезжающего. Вертели в руках его паспорт так и этак. Предлагали снять с лица пластыри. На все их хитроумные происки Леонтий, держа руку глубоко в кармане, многозначительно (и сурово) им отвечал: дело сделано. Наконец, велели позвать сопровождающего, чтобы подтвердил личность хотя бы словесно. Вик Викыч и был сопровождающий. Увидев побитого, в пластырях Викыча, пограничники развеселились: не может, мол, быть, чтобы эти двое, такие схожие, не были братьями.
— ... Но все. Уже все. Порядок. Леонтий летит, — заключил Викыч рассказ. (Довольный сделанным делом. Честь честью. Проводил.)
Последнее, о чем они (Викыч и Леонтий) говорили в аэропорту, — русская провинция. Какое это чудо. Они не хотели там, в провинции, жить (ни тот, ни другой), но они ее любили. Нет ничего лучше тех улочек. Нет ничего роднее тех поворачивающих тропинок и тех пыльных, неасфальтовых дорог, а ивы в пыли, а эти небольшие речки!.. Оба плакали, подбирая слезы с разбитых глаз и губ, с посиневших скул. Один из улетающих им сочувствовал, решив, что мужиков перед вылетом обворовали.
— Нас обворовали, ты понял?! — кричал мне Вик Викыч.
Когда Викыч пересказывал, я тоже пустил было слезу, вспоминая пыльные задрипанные улочки. (Вспомнил и о Вене в больнице, пора навестить.) Улочки и проселки так и стояли перед глазами — скорее идея, чем реальность. Но их все еще грело солнце. Они пылили.
Есть у меня и другой свитер, более теплый; и более густого цвета. На худощавую фигуру в самый раз. На свитере дырка с тыла — прожженная сигаретой (почти на заднице). Но если, входя, держать руки чуть сзади, все отлично, свитер просто блеск. Я окреп, одолевал любые расстояния. К тому же осень ровная, давление не скачет (молодец!).
Когда пришел навестить Веню, меня принял Холин-Волин. Главный. Я уже знал о переменах (Иван Емельянович парил теперь совсем высоко; орел). Холин-Волин был дружелюбен, как и положено ему быть с родственником одного из постоянных больных. Ровный разговор. И ни полслова о моем недавнем здесь пребывании — ни намеком, ни циничным взглядом. Серьезен.
— К брату пришли?.. Хорошо.
О Вене, о вялом развитии болезни Холин-Волин говорил достаточно обстоятельно и с заботой — услышалась в его голосе и заинтересованность (профессиональная; как она слышалась и в голосе Ивана в свое время). Беседуем. О том, что появился новый американский препарат. О питании. О разном и прочем — о том, как подействовала на Веню нынешняя осень с ее холодами. Я не вполне врача понимал: он же совсем недавно считал, что я псих и скрытый уголовник. Зачем ему я? Откуда этот такт и его желание общаться, чай со мной пить? (Или господину Холину-Волину задним числом слегка неловко?) И конфету к чаю мне дали в точности так же, как в давние визиты, одну, но дали. Возможно, инерция: мол, повелось еще при Иване — при прошлом царе, чай, беседа с писателем...
Но могло быть и так, что Холин-Волин вовсе не думал обо мне, он и не пытался думать. (Меня иногда поражает мысль, люди не думают.) Тотальное «не», именно оно ведет людей по жизни день за днем, неделя за неделей. Ведет это «не» и Холина-Волина, ведет ровным ходом и само собой, автопилот; и вот откуда возврат к честной серьезности врача и такт, и перепад отношения ко мне (в лучшую сторону), вот откуда чай и моя конфета.
Сидим, разговариваем:
— ... Венедикт Петрович помнит о вас даже в самые трудные, в плохие свои дни. Что там ни говори, его и ваше детство прошли рядом. Это ведь много. А для него — очень много!
— Да, — киваю я. — Родители уходили на работу на целый день. Запирали снаружи нас с Веней вдвоем. В отместку отцу мы однажды ножницами порезали на полоски свежие газеты!.. Нянек не было.
— А летом?
— Летом у деда в деревне, там и вовсе счастливы.
— Вдвоем?
— Да.
— А друзья?