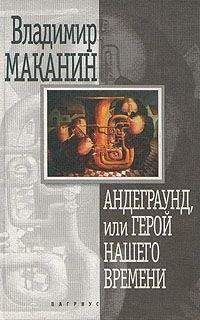— Да, — киваю я. — Родители уходили на работу на целый день. Запирали снаружи нас с Веней вдвоем. В отместку отцу мы однажды ножницами порезали на полоски свежие газеты!.. Нянек не было.
— А летом?
— Летом у деда в деревне, там и вовсе счастливы.
— Вдвоем?
— Да.
— А друзья?
— Бывали и друзья. Но попозже — в школе. У него как раз и были всюду дружки и подружки. Веня к себе притягивал. Веня вообще был ярче и, безусловно, талантливее, чем я... Но никакой ревности меж нами не было.
— То есть росли естественно.
— Да. Как трава.
Нам приносят (Адель Семеновна, медсестра с родинкой) еще по чашке чаю.
В какую-то из чайных минут я попробовал напомнить господину Холину-Волину. Я намекнул для начала этак академично (и не без легкого яда), а нет ли, милый доктор, чего общего с научной точки зрения в наших с Веней бедах (и психиках?) — родные ведь братья. Однако Холин-Волин никак не отреагировал. Доктор Холин-Волин словно бы решил не касаться тех недавних (и неприятных) дней — мол, что ж смешивать. Мол, если посетитель и родственник, то и будь им.
Слова под ногой заскользили. Я смолк. Нарушивший их условности, я уже ожидал (отчасти виноватясь), что Холин-Волин дружелюбно, но строго меня одернет, погрозит пальцем: «Но-но!..» — мол, тех сложностей и того темного пятна нам обоим не следует теперь касаться.
— Извините, — сказал я мягче.
Но уже через три минуты (сука!..) я опять не удержался и, варьируя разговор о Вене и далеком детстве, рискнул на своеобразный шутливо-глумливый прыжок (через говорливый наш ручеек) — с берега на берег.
Улыбаясь ему, я спрашивал:
— ... А скажите: если б в тот день санитары были покруче? если б забили меня?.. Мог бы я рассчитывать, что окажусь с Веней в одной палате?.. Это ведь трогательно! Мы бы с Веней решили, что детство вернулось. А Иван Емельянович был бы как отец родной, который ушел на работу и снаружи нас запер...
Я засмеялся шутке, а врач нет. С мягкой улыбкой и с чуть припрятанным недоумением он только взглянул на меня.
— Да, да, — сказал он. Так говорят и так взглядывают не вполне расслышавшие, в чем, собственно, шутка. Не всё в ней понявшие, но тем не менее (жизнь-то идет) продолжающие из уважения вести разговор. Холин-Волин не понимал. Он не понимал, о чем я.
Он меня забыл. Я продолжал ему что-то (что?..) говорить, я уже доел конфету и прихлебывал из чашки последнее. Я ему улыбался. Но внутри я слегка одеревенел. Вот, оказывается, что такое — мы. Мы, то есть люди.
Каким-то чудом я умудрился не застрять у моей старой знакомой Зинаиды. А ведь был так слаб духом! Мужчина, попавший в уют и в тепло после больницы (после такой больницы), — как гретый воск. Сидишь и с боков обтаиваешь.
Зинаида все про воск поняла. Чуткая. Но колебалась.
— Если ты на один вечер, то чего нам с тобой сходиться? — спросила она прямо, как солдатская жена. И как солдатская вдова, наскучавшая за годы, уступила.
Отчасти еще препаратный, на водянистых чувствах, я, кажется, не вполне понимал, что мы с ней собираемся делать. Именно так. Если бы не она, я, возможно, не сообразил бы известной последовательности наших запараллеленных с женщиной действий и мог замереть, сняв ботинки, затем брюки, и... мол, что там на очереди дальше?
Так что это она сама колебалась. (Грызла в раздумье белые сухарики один за одним. Похрустывала.) Сама с собой грандиозно сражалась, и сама себе сдалась. Жизнь как жизнь. Я ведь тоже сражался. Солдатские ассоциации не покидали меня. У Зинаиды два взрослых сына. Оба служат. Фотографии бравых парней с значками и лычками.
На другой же день (за постелью вслед) Зинаида уже поторопилась навязать мне работенку:
— ... Разгружать машины с барахлом, а? Для фирменного магазина. Слышь, Петрович. Со вторника. Просили, чтоб мужик не обязательно постоянный, но чтоб обязательно честный. Чтоб не обыскивать каждый час до трусов!
Случай не упустив, я у Зинаиды помылся. То есть не побрызгался справа-слева, а полежал, помлел, отмок в горячей ванне, растягивая банное время до той бесконечности, пока душа не запела. Конечно, с мочалкой, с хорошим душистым ее мылом (Зинаида, угадав минуту счастья, еще и бросила мне новое махровое полотенце). В таком вот замечательном настроении, неспешно вытираясь (не растираясь, а только промакивая полотенцем влагу с тела), я глянул в зеркало. Поджарый, можно сказать, худой, худощавый господин, уверенный в движениях и уверенный в себе, лишь несколько взлохмаченный (я как раз причесывался) — этот господин с седыми усами, с седыми висками стоял передо мной. «Вот ведь каков!..» — в третьем лице отозвался я о том, кого увидел. Меня удивило лицо, столь сильно определившееся в своем желании жить, — лицо, сложившееся, сгруппировавшееся в не зависимые уже от меня черты житейской энергии и ярости. Я даже ахнул. Формула выхода из психбольницы:
«я» — «п» = былое «я»,
где «п» это препараты, что должны выветриться (выйти с дыханием), — эта формула даже опережалась. Меня смутила эта показная ярость, а с ней и твердость чувств на уверенном лице, в то время как уверенности и прежней твердости (как я знал) пока что не было, ничего не было, ноль. Мимикрия. Чтобы жить. Только и всего, чтобы жить и выжить. Но господин мне понравился. Уверенный и хорошо стоящий на ногах, знающий и про время на дворе, и про свой час.
Сказал себе вслух:
— А что?.. Пусть так.
Я поиграл мыслью в будущую свою закамуфлированность: вот с таким лицом буду жить. И лишь к ночи, как калека, заваливаясь в постель, отстегивает свою кожано-деревянную ногу, я тоже, покряхтывая, ремешок к ремешку, буду отстегивать в темноте лицо (перед сном, святые минуты) — буду самим собой. Буду оглаживать свое мало-помалу восстанавливающееся «я», как тот же безногий солдат, оглаживает свой обрубок — мол, даст Бог и вырастет вновь.
С утра этот вот господин, пристегнутая нога, опять зашагает трудиться, защищать чужие кв метры, никакой ущербности, вот в чем и жизнь. Вот зачем нам так много дается — чтобы потерять нашу уникальную малость. Чтобы помнить ее, скорбеть по ней. Чтобы знать. И чтобы возвращать ее себе своей же жизнью. Каждый день. Каждый час. Мало-помалу. Чтобы в минуты всеобщего врачевания в нас тем более и тем сильнее возникал и жил этот праведный страх потерять «я».
Я глядел в зеркало. Я заглядывал в жизнь. Жизнь нравилась. Я причесывался.
Зинаида сунулась в дверь ванной и вмиг, женским глазом, увидела, узнала возродившегося господина (пока что внешне, но ей это и надо) — увидела, как крепко стоит он на ногах здесь и там (в зеркале), — и тотчас запела:
— ... Говорил, торопишься, а сам все причесываешься! Значит, время есть, а? Слышь, Петрович. Может, останешься еще на ночку-две, а какой супец с баранинкой у меня! ого!.. и беленькую найдем.
Не прошло и месяца, как Вик Викыч умер, сбитый машиной; он скончался сразу, такой силы был ночной, слепой наезд.
В тот поздний час Викыч перебирался со своими малыми вещичками на новое место — уходил от женщины к женщине (из уюта в уют). В районе Вешняков на темном, экономящем свет шоссе Викыч шел по самой кромке, близко к проезжей части. Шофер сбил его и помчал дальше. Мертвый Викыч лежал там всю ночь, в середине ночи был раздет мародерами; он шел в единственном своем прекрасном костюме (переносил его на себе, чтобы не мять). Ни его большой вечной сумки с надписью Эверест, ни рукописей. Забрав сумку, рукописи, разумеется, где-то выбросили. Ни даже одежды. С него сняли все, разули. Такие времена. Он лежал в трусах и майке; с пробитым виском. Женщина, к которой он шел, обнаружила Вик Викыча только утром (но все же успела!), когда его, безымянного, уже было забирала труповозка.
Женщина ждала его всю ночь, он обещал. Утром, с сердцебиеньем и, что называется, через не могу, она позвонила той, от которой ушел; после пререканий и взаимных колкостей (не слишком болезненных, так как женщины не знали друг друга) выяснилось, что Виктор Викторович уже ушел. Ушел на ночь глядя. Он всегда так уходил. Собрал рукописи, да, да, и все свои вещи тоже в одну сумку — и ушел. Нет, такси не вызывал, пешком, он и ко мне пришел пешком, не знаю, голубушка, не знаю... ищи.
Женщине сорок с небольшим, скромная, а сын двадцати лет (к ним Вик Викыч и направлялся). Сын понял мать в трудную минуту и шуметь не стал, помог привезти тело; сын помог и кремировать. Женщина, как выяснилось, видела Викыча ровно три раза, скорая любовь, три встречи. В сущности — незнакомые. Вот кто его проводил. Женщина знала (от Викыча, на всякий случай) мой телефон, но пока в многоквартирной общаге меня отыскали, время ушло. Я примчался на кремирование, но Викыча не увидел. Такая нелепость. Мне не хватило минуты-двух. Я вбежал, весь мокрый, с открытым ртом (дядя, где твои зубы,— сказал мне один из тех, кого я расталкивал) — я успел, я почти успел, было еще их время, женщина и ее сын находились в зале прощания. Но тело Викыча уже уплыло в огонь, уехало, укатило, я не увидел его мертвого профиля. Ну, минуты, буквально минуты не хватило.