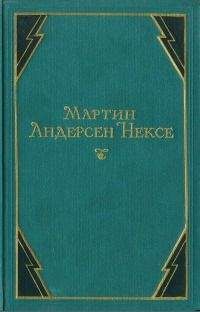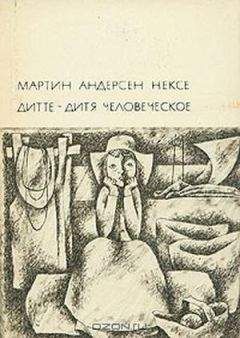Старый Эббе кончил. Все молчали. Речь его произвела сильное впечатление. И Йенс Воруп решил, что теперь, когда Эббе перевел все на религиозную почву, затевать спор безнадежно. А кроме того, уже и темнеть начало, поэтому все вернулись в дом.
Столы уже были заново накрыты. Пастора Вро извлекли из кабинета, где он спал, и ужин начался. Кроме горячего жаркого — жареных голубей, на столы были поданы холодные блюда: жареные утки и оставшаяся от обеда свинина; на ее огромных ломтях желе колыхалось, как ртуть. Паштет из печенки ели ломтями толщиной в два пальца. Были еще холодный жареный угорь и огромная миска с крутыми яйцами. Все это запивалось баварским пивом и датской хлебной водкой.
Веселое настроение за ужином никак не налаживалось, и это объяснялось отчасти тем, что пастор Вро все еще маялся животом; он, правда, усердно потчевал себя всеми яствами, но ел без особого удовольствия. А удовольствие от поглощения пищи было тем возбудителем, который пробуждал в нем его духовное начало; он сам любил подчеркивать эту зависимость.
Второй причиной пониженного настроения были слезы Петры Фискер. Нильс застал ее плачущей в большой прихожей; она уже почти совсем оделась, чтобы итти домой. Что произошло, никто не знал, и Нильс лишь с трудом уговорил ее снять пальто и вернуться в комнаты. Теперь она сидела за столом, низко опустив голову, пряча покрасневшие от слез глаза. Чему же удивляться — не выходила бы замуж за человека из другого сословия!
Лишь когда разлили водку по рюмкам, общество немного оживилось. Стекла пасторских очков снова сверкнули, и он рассказал одну из своих очаровательных, слегка соленых историй. Но на этом пастор и выдохся. Тотчас же после ужина Йенс Воруп велел заложить свою охотничью бричку, и старший работник отвез пастора с супругой домой.
Мария Воруп тревожилась.
— Хоть бы впрок пошло пастору все, что он ел, — озабоченно сказала она. — Не знаю, право, я, кажется, так старалась...
— Боюсь, что он перестарался, — сказал ее брат. Кроме учителя Хольста, никто не засмеялся: пастора критиковать не полагалось вообще, а уж Нильсу в особенности не следовало бы этим заниматься.
— В выборные народные представители наш дорогой пастор наверняка не годился бы, — сказал примирительно депутат ригсдага. — Там, в столице, то и дело приходится выдерживать такие званые банкеты, что сегодняшний обед Марии Воруп детская игрушка перед ними.
Разговор перешел на званые обеды вообще. Йенс Воруп тоже уже несколько раз бывал на таких изысканных званых обедах, где все было до того аристократично, что ничего не стоило спутать лакея с графом. А директор Высшей народной школы Хэст дважды был даже приглашен — правда, по недоразумению — к королевскому столу. Он презанятно рассказывал, как ему пришлось голодным встать из-за стола, хотя всяких яств было достаточно. Стоило ему положить себе чего-нибудь на тарелку, и — раз! лакей, стоявший за его стулом, выхватывал ее у него из-под носа.
— Для нашего пастора это было бы тяжелым испытанием, — пропищал Термансен таким плаксивым голосом, точно одна мысль об этом надрывала ему сердце.
В глазах учителя Хольста, пристально смотревшего на него, все чаще вспыхивал странный огонек. Жена его, сидевшая напротив, с тревогой следила за мужем. Постепенно лицо его из красного стало багровым, и вдруг он испустил протяжный вопль, вышел из-за стола и принялся ходить по комнате. Он сгибался в три погибели, ревел, как бык, прижимался головой в угол, размахивал в воздухе руками, как бы прося о помощи, — и выл, выл! Его кругленькая Ловиза бросилась к нему, обежав длинный стол, и крепко стиснула ему лоб своей рукой.
— Боже мой, у него сейчас будет истерика! — в отчаянии восклицала она, беспомощно озираясь. Она помогла ему выйти в коридор и там старалась его успокоить.
Карен промчалась по комнатам со стаканом холодной воды. Все умолкли, настороженно вслушиваясь; время от времени из коридора еще доносился вопль. Но вот они вернулись в столовую. Хольст казался очень слабым и измученным, а в глазах еще светился смех, словно вот-вот готовый вырваться наружу. Ловиза Хольст умоляюще смотрела на всех. Но она напрасно беспокоилась: ни у кого не было охоты смешить учителя, все знали, что новый приступ конвульсивного смеха может привести к катастрофе.
Директорская чета из Высшей народной школы воспользовалась суетой и под шумок велела заложить свою бричку, а Нильс Фискер попросил у сестры для себя и старого Эббе маленькую коляску.
— Отец устал, — сказал он сестре, мотивируя свое желание уехать. — А коляску мы пришлем вам завтра рано утром.
Петра укуталась в дорожный плащ Марии, буквально потонув в нем, и удобно уселась, решив подремать. Отец и сын всю дорогу молчали. Каждый из них ушел в свой мир, далекий от действительности и такой разный по своему пути во вселенной. Только когда подъехали к «Тихому уголку» и Нильс открыл старику дверь его дома, отец и сын тепло пожали друг другу руки в знак взаимопонимания.
Старый Эббе задержал руку сына в своей.
— На этот раз мне все же жаль, что ты прав, — произнес он наконец.
— Мне, признаться, тоже немножко жаль, — сказал сын и сел в коляску.
Между тем на хуторе мужчины, перейдя в кабинет Йенса, уселись за карты. Женщины остались в столовой; каждая достала из сумки свое рукоделие и книгу грундтвигианских псалмов. У Термансена, как всегда, было с собой его вязанье, и он уселся среди женщин; обвязанный платком, смешно подчеркивавшим обвислость щек, он походил на старую измученную женщину, родившую, вероятно, немало детей; голос его выделялся среди голосов женщин своей пискливостью.
Дверь между столовой и кабинетом была открыта настежь, и звуки псалма, который пели женщины, смешивались с возгласами мужчин вроде: «Этого ты, клянусь, не побьешь!» — или: «Тебе снимать!» и хлопаньем по столу картами. В промежутках, если позволяла игра, мужчины включались в женский хор и пели вместе с ними то одну, то другую строфу псалма. Когда Андерс Нэррегор, проникновенным голосом выводя слова псалма «На крыльях жаворонка парил я в поднебесье», вдруг прервал себя и энергично крикнул: «Йенс Воруп выходит в короли!» — учителя Хольста чуть было опять не хватили конвульсии. Мужчины рьяно курили свои трубки, а Мария сварила такой пунш, что пары его могли поспорить с клубами табачного дыма, плывшего под потолком.
— До чего ж сейчас славно и уютно в нашей дружной компании! — воскликнул Йенс Воруп в одну из коротких пауз между двумя партиями в карты и двумя псалмами. — Не спеть ли нам по этому случаю «Мир снизошел на поля и грады наши!»
— Но только отложите карты и вторьте нам как следует, — сказала Мария.
Красивый вечерний псалом все пели стоя, и это послужило знаком для гостей начать прощаться.
Перед сном Йенс Воруп, как обычно, совершил обход скотного двора, проверяя, в порядке ли скотина. Вернувшись, он повесил фонарь на крюк и начал раздеваться.
— Наславу удался денек, — произнес он, повернувшись к жениной кровати. Но Мария ничего не ответила. Тогда он нагнулся и посмотрел на нее: она лежала на спине, откинув голову вбок, и спала. При тусклом свете фонаря он увидел в ее руке что-то белое, повидимому письмо, а рядом с кроватью, на стуле, стояла та самая шкатулка, содержимое которой находилось в какой-то таинственной связи с приступами меланхолии у Марии. Чем они вызывались — этого Йенс Воруп до сих пор не знал и был слишком горд, чтобы воспользоваться случаем и раскрыть тайну. Но его огорчило, что именно сегодня у Марии был один из этих приступов.
Он осторожно вынул зажатое в ее руке письмо, положил его в шкатулку и повернул ключ в замке, затем погасил свет и бесшумно улегся.
Система «свободного воспитания», повидимому, оказала на Марию Воруп более благоприятное действие, чем на ее брата. Если Нильса она, не на радость приходу, привела к «освободительным» идеям, давая тем самым основание попрекнуть старого Эббе за его взгляды, то никто не спорил, что более толковой и замечательной жены, чем Мария Воруп, днем с огнем не сыскать. Конечно, и у Марии бывают времена, когда с ней трудно ладить и когда нужно очень осторожно обходиться с ней или, лучше всего, просто оставлять ее в покое. Но что поделаешь, ведь у каждого есть какие-нибудь слабости! Беда Марии — в ее мрачных настроениях, которые могут обернуться вдруг самой неожиданной стороной. Где-нибудь-то им надо прорваться! Зато в повседневном быту немного таких, как она: кроткая, незлобивая, всегда ровная и приветливая; к работникам добра, не ограничивает их в еде.
Сама Мария далеко не всегда была довольна полученным ею свободным воспитанием; случалось, она корила за него отца с таким жаром, что это походило на объявление войны. А когда речь заходила о воспитании ее детей, она лаконически высказывалась за нормальную школу; она, мол, вовсе не хочет, чтобы дети выросли со странностями.