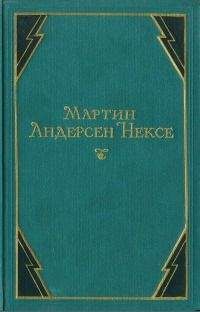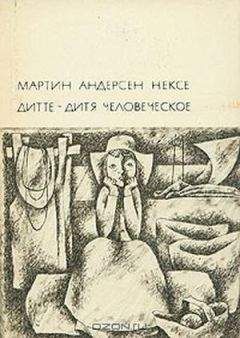Все это нарушало душевное равновесие Марии. Ведь она была как раз в том трудном возрасте, между двенадцатью и тринадцатью годами, когда кровь начинает играть, и переписка с юным незнакомцем слишком переполняла ее девичье сердце.
Некоторые утверждают, что женщина, забеременевшая после того, как ею насильно овладели, так много думает о насильнике, что примиряется со случившимся, сознание ее свыкается с мыслью, что она принадлежит ему, и она даже привязывается к нему. Нечто подобное происходило и с Марией. Ей насильственно навязали общение с чужим ей существом, и вот это существо уже незаметно околдовало ее сердце. Теперь она помимо своей воли связана с Эйвинном. Учитель уехал. Затем пришел день, когда Мария окончила школу. Но Эйвинн остался. С исчезновением Хюбшмана ее переписка с Эйвинном сама по себе замерла, — • сначала от Эйвинна еще приходили изредка письма, а потом он умолк. Но это ничего не изменило. Юноша овладел ее душой, она бессильна была уйти от мысли о нем, да и не пыталась вовсе. Наоборот, она мысленно всячески стремилась к близости с ним. Всем своим ясным как день существом она все больше и больше старалась — и не могла иначе — проникнуть в неведомое и через все свои девичьи годы бережно пронесла образ Эйвинна; это была ее сокровенная тайна — тайна, непосильная для ее души. Ею овладело нечто далекое ей и мучительное. Только поступив в Высшую народную школу и встретив Йенса Ворупа, она сумела окончательно сбросить с себя путы, которыми ее сковало неведомое, и почувствовать себя юной среди юных и веселой среди радующихся.
После двух зим, проведенных в Высшей народной школе, Мария поступила дополнительно на шестимесячные курсы домоводства, чтобы приобрести навыки домашней хозяйки. Однажды на курсы прибыла большая пачка писем из какой-то норвежской общеобразовательной и сельскохозяйственной мужской школы. Начальница сунула их в мешок, и, под дружный говор и смех, каждая из девушек по очереди тянула свое «счастье», как они, смеясь, назвали послания, которые прочитывались вслух. Мария не принимала в этой забаве никакого участия, она раздраженно отошла в сторону и, сурово сдвинув брови, наотрез отказалась тянуть «счастье».
— В таком случае я сделаю это за тебя, — сказала одна из подруг и извлекла из мешка конвертик; он не был заклеен, девушка вытащила из него письмо. Мария с большой тревогой следила за каждым ее движением и вид у нее был такой, точно ее бросало то в жар, то в холод.
— Нет, вот это так интересно! — рассмеялась девушка.
В краю родном проходит жизнь твоя,
душа ж твоя стремится в край чужой!
Эйвинн Стеен. —
прочла она и протянула письмо Марии. Но так как Мария даже пальцем не шевельнула, подружка сунула ей письмо в карман передника.
Мария Фискер побледнела как смерть, едва устояв на ногах, потом стремительно бросилась в свою комнату.
Ни одной живой душе она не поведала об этом странном совпадении, но опять что-то затормозилось в ней, застыло в немом изумлении. Опять ее угнетали сомнения, вопрос: что все это может значить?
В повседневном быту она лишь стала несколько молчаливее, чем была. По природе своей трезвый и разумный человек, она не давала мистической паутине опутать себя. Чаще всего она совершенно забывала об этом самом — непостижимом, но затем наступала минута, когда она целиком отдавалась ему, как пловец отдается на волю течения, чтобы поглубже вздохнуть. И оно завладевало ее сознанием настолько, что вытесняло все остальное. В такие периоды она относилась к мужу и детям, как к совершенно посторонним существам, по какому-то недоразумению вторгшимся в ее мир. Она не делала тогда ни малейшей попытки противостоять власти непостижимого, вся уходила в царство воображения, в котором Эйвинн и она, словно еще с колыбели или даже от сотворения мира, были предназначены друг другу. В этом своем состоянии Мария не чувствовала никакой вины перед мужем, больше того — она готова была даже видеть в Йенсе насильника, против воли завладевшего ею, и испытывала к нему такую неприязнь, что при малейшей его попытке к сближению эта неприязнь могла бы превратиться в отвращение и жгучую ненависть. Но муж оставлял ее в покое, как только ею овладевало «смятение». Зато, когда это проходило, она любила его больше прежнего и, терзаясь раскаянием, была с ним нежной и ласковой.
Такое состояние стало повторяться чуть ли не регулярно. Когда, с промежутком в несколько месяцев, наступал очередной припадок, она запиралась в спальне и часами сидела там, держа шкатулку на коленях. Одно за другим сменялись в ее душе настроения, будто подгоняемые бурей. Все, что она слышала и знала о Норвегии, с романтической силой всплывало в сознании: здесь были и снежные горы, и фьорды, и лыжники-великаны с душами беспорочных младенцев, и невинные пастушки в одеждах, белее самой вершины Фольгефонена. Хотя она не имела понятия, где собственно находится этот ледник, он представлялся ей таким же беспредельно чистым, как поднебесное пространство. И там, на высоте, в рядах белоснежных великанов, шествовал Эйвинн, и — в лучшие мгновения — она вместе с ним. Жизнь их была беспрерывным счастьем. Ведь солнце там никогда не заходило! А то вдруг наступала вечная ночь. Мария ощупью брела по пустынным просторам в безнадежных поисках Эйвинна. Истомленная любовной тоской, она выкликала его у ночи. И, когда они, наконец, находили друг друга, не было меры их ликующему счастью.
Как только Мария приходила в себя, ослабевшая до полного бессилия, с ощущением горечи во рту, она не могла отделаться от угрызений совести, от чувства вины перед мужем и детьми и не раз давала себе зарок никогда больше не поддаваться власти этих безумных фантазий. Но она была достаточно здорова, чтобы слишком долго предаваться угрызениям, и достаточно проникнута фатализмом, чтобы признаться себе самой в неумении совладать со своим недугом. Пусть некто, одержимый определенными идеями, вовлек ее в путаную игру, ко детей своих она убережет от этого. Уже то, как Арне иной раз поглядывал на нее, наполняло ее материнское сердце ужасом. С мальчиком ей труднее было найти верный тон: ей казалось, будто его гложет ревность, которую естественно было бы ждать от Йенса Ворупа.
Перед мужем она искупала свои грехи лаской и заботой. Мысленно она оправдывала себя тем, что Йенс ведь никогда не относился к ней по-настоящему тепло, никогда не проявлял той пылкой любви, о которой рассказывается в романах.
Все вокруг единодушно сходились на том, что Мария образцовая жена. Да и сама Мария считала, что в общем она неплохая женщина. Если хорошенько подумать, то ведь от своих странностей только она одна и страдает, супружеского долга она никогда не нарушала.
По вечерам Йенс Воруп чаще всего отсутствовал: то он уходил на заседание приходского совета, то ему нужно было наведаться в правление потребительского общества, молочного кооператива или объединения по заготовке кормов. Та или иная причина находилась всегда. Всем он нужен был, и все думали, что без него не обойтись. Вынужденная коротать в одиночестве долгие зимние вечера, Мария хорошо знала, что значит жить уединенно и замкнуто. Внизу, в деревне, можно, если явится охота, прихватив какое-нибудь рукоделие, забежать к соседке и посидеть с ней, поболтать. Здесь же это не так легко и просто.
Поэтому, чтобы развлечься, Мария после рабочего дня заходила в людскую. Работники и работницы приветливо встречали ее: она никого не стесняла, беседа велась при ней с обычной непринужденностью. От старого Эббе она унаследовала уменье так вести себя, чтобы в ее присутствии работники забывали о том, что она хозяйка. Говорили о газетных новостях, обсуждали мировые события, и каждый совершенно непринужденно высказывал свое мнение. Иногда кто-нибудь начинал читать вслух; особенно хорошо читала Карен. Заходили, бывало, в гости и работники других хуторян, а время от времени появлялись и хусмены из соседнего прихода, нередко приводившие с собой еще и новых гостей. По заведенному Марией порядку, такие вечера начинались и завершались пением какого-нибудь псалма, и это придавало им торжественный характер. Старик Эббе, который тоже пришел однажды, зная, что Йенс заседает в этот вечер в приходском совете, очень одобрил эти собрания. Он предложил Марии установить постоянные дни для них и широко объявить, что могут приходить все, кто хочет, сам же своим участием в беседе умел придавать ей глубокое содержание: черпая из своих душевных богатств, он направлял разговор на значительные темы.
Охотнее всего присутствующие обсуждали текущие события, о которых сообщалось в газетах. И в этом не было ничего удивительного: так тревожно, как сейчас, жизнь никогда еще не складывалась. Сама природа вела себя, как лихорадочный больной, беспокойно мечущийся из стороны в сторону: почти ежедневно разражалось какое-нибудь стихийное бедствие. Еще ощутимее, однако, давало себя знать зловещее смятение, царившее в быту. Весь мир словно трясло в предчувствии роковых событий. Однажды газеты сообщили, что самые крупные банки в Вене и Берлине вынуждены были прекратить операции, так как вкладчики неожиданно и без всяких оснований к этому осадили банки и потребовали выплаты своих денег. Многие совершенно здравомыслящие в обычное время люди потеряли рассудок я всюду таскали с собой свои сбережения и ценности. В свою очередь, как следствие этого, количество ограблений с убийствами возросло в фантастических размерах. Крупнейшие города мира, где бьется пульс человечества, были охвачены паникой.