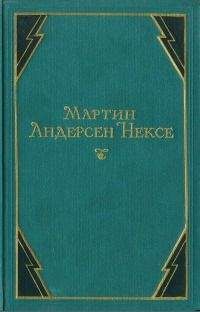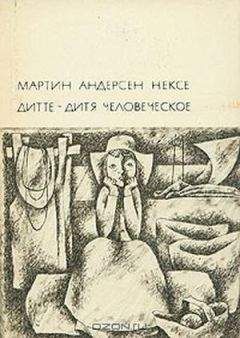— Вот не думал, что через пятьдесят лет кто-нибудь скажет мне спасибо, да еще такое! В ту пору, бог свидетель, нас не очень-то щедро отблагодарили. Но я честно заслужил благодарность, ибо свой долг я выполнил.
Да, свой долг он выполнил, и даже больше того. Мария Воруп с изумлением смотрела на этого бедняка Сэрена Йепсена. Жизнь ему не подарила даже клочка земли, где могла бы пастись корова, хотя это была высшая мечта его, — и все-таки он пошел всевать, защищать собственность других людей, тогда как эти другие отсиживались дома! Ведь почти из всех мужчин этой местности он чуть ли не единственный воевал — он, которому нечего было защищать! Храбрый и верный своему долгу, он пошел навстречу врагу, — которого в сущности даже не мог назвать своим врагом, — вооруженному по последнему слову военной техники, тогда как его оружие недалеко ушло от цепа и вил. Ибо безумие этого похода в числе прочего заключалось в мысли, что такую большую страну, как Германия, можно победить голыми руками. Все же ружьишко у него имелось, значит армия не на одну волю божию могла полагаться. Но чтобы зарядить таксе ружье, требовалось не менее четверти часа, а через пять минут от заряда ничего не оставалось. Сэрен Йепсен с поразительным юмором рассказывал, как они, лежа на животах, возились с зарядкой ружей: раньше всего надо было отмерить мерочкой порох, затем насыпать его в патроны, затем патроны зажать, а после этого, далеко откинув руку с ружьем, вставить заряд в дуло.
— Тем временем пруссак с хохотом прорвал нашу цепь и побежал дальше. Он, право же, даже не тронул нас — пусть, мол, занимаются своей ерундой! А когда мы, наконец, зарядили и собрались стрелять, мы уже оказались в плену.
И за то слава богу, Сэрену Йепсену не пришлось быть свидетелем горчайшего конца! Поэтому и аудитории его не пришлось услышать в его живом, подробном и красочном изложении о штурме Дюббельеких укреплений, о переходе пруссаков на остров Альс, о позорном мире.
— Благодарение богу, мне не привелось быть среди тех, кто стерпел позор возвращения в столицу: ведь в благодарность за то, что люди выполнили свой долг, им плевали в лицо!
«Как трогательно и больно слышать о таком неугасимом пыле и о том, чем все это кончилось», — думала Мария, укладывая уснувшего Арне в столовой на диване и торопясь в людскую, чтобы ничего не упустить.
Старый поденщик с удовольствием продолжал рассказ о походе:
— Было бы у нас порядочное оружие, мы бы, видит бог, проучили немца. Но когда газеты пишут, что нам выдали плохие сапоги, —они лгут: мы все носили собственную обувку, захваченную из дому. Правда, когда мы наутро после взятия в плен выстроились перед церковью в Гростене, переночевав там на полу, принц Карл действительно разрешил своим солдатам отобрать у нас наши добрые сапоги и дать нам взамен свои стоптанные сапожищи. Ко мне тоже подошел пруссак, пнул меня ногой и сказал: «Давай свои сапоги!» А я ему: «Нет, чорт тебя возьми, не дам! Сапоги мои, на собственные денежки купленные!» Он и отстал. А наши люди подняли шум, когда им дали плохие прусские сапоги; они отрезали верха и в этих опорках, не поднимая ног, шлепали по дорогам. Офицерам, понятно, это было не по нраву, но вообще они относились к нам неплохо. В Ренсборге нарядные дамы раздавали нам сигары, а в Гамбурге, верите ли, нам дарили деньги. Один я получил целых четыре марки! Вот это, можно сказать, господа!
Все нашли, что это очень порядочно для немцев.
— Ну, в такой большой стране деньги, наверное, на улицах валяются! — высказал предположение один из стариков.
— Пожалуй, поеду я туда, — мечтательно сказала Карен, — может, если повезет, там и замуж выйду. Ведь с тоски умрешь, всю жизнь в служанках жить!
— Нет уж, по-моему — лучше выбей это из головы, — с видом осведомленного человека сказал Сэрен Йепсен. — Там, в Германии, женщинам приходится не в пример больше работать, чем у нас, они и землю унаваживают, и доят, и косят, и еще много чего такого делают, что у нас считается мужской работой. А женятся там только на тех, у кого лиф на груди не сходится, — ведь немец за свои деньги хочет получить побольше, так что тебе придется ваты подложить!
Все засмеялись. А Карен выставила грудь вперед, — она все ж таки нисколько не боится и непременно поедет попытать счастья на чужбине.
Сэрен Йепсен сам был бы непрочь махнуть куда-нибудь, несмотря на преклонные годы. С тех пор, как прошел слух, что в пятидесятую годовщину падения Дюббельских укреплений в столице хотят устроить грандиозный смотр войскам с участием всех ветеранов шестьдесят четвертого года, он потерял покой.
— Вас там хотят использовать как живую пропаганду войны, — сказал ему кузнец Даль. — Великие державы, видишь ли, затевают большую драку, и вот наши господа боятся: вдруг у нас в этой общей каше морда в крови не будет.
Но Сэрену Йепсену было все равно, какой бы вздор ни молол кузнец, как, впрочем, и Нильс Фискер тоже, которого уволили за его сумасбродные идеи. Они оба социалисты и стоят за немцев. Не так уж, кажется, не прав был пастор Вро, когда назвал их бродягами, не помнящими родства.
— Я хочу поехать в столицу, пожелать доброго здоровья королю, — сказал он. — А потом пусть определят туда, где я им лучше пригожусь. Я не социалист.
После того как составленное учителем Хольстом прошение было отослано, для старого поденщика наступило время напряженного ожидания и волнений. Наконец-то справедливость восторжествует и он вместе со всеми ветеранами этого похода получит удовлетворение за тот позор, который им пришлось в те незабываемые дни претерпеть от сородичей.
Состояние постоянного возбуждения не покидало его. Вопреки краху, которым кончилась война шестьдесят четвертого года, участие в ней стало величайшим событием его жизни: ведь он был там, где решались судьбы страны, — это ли не налагает отпечаток на человека! И он выполнил свой долг, и еще больше того! Сознание этого озаряло ярким светом всю его бедную жизнь, поднимало его на ступень выше повседневности, придавало ему интерес в глазах окружающих. Быть может, оно-то и помогало ему держать голову высоко и так легко переносить лишения всех последних лет!
Что там ни говори, а человек стареет, и становится трудно заставить молодых, здоровых работников слушать тебя: разве могут они себе представить, что этот старик и есть тот самый герой, который вынес некогда столько мытарств и проявил столько бесстрашия. В работе Сэрен Йепсен долгое время не отставал от молодых: это было необходимо, чтобы создать фон для великого прошлого, и при этом он сам сохранял моложавость. Но рано или поздно, а старость приходит: даже дети с удивлением смотрели на его высохшие руки с искривленными пальцами, когда он размахивал ими, увлекшись рассказом. Данневирке и Дюббель, два ярчайших события, какие только он знал, с годами тускнели, словно их по капле расплескали его бессильные стариковские руки.
Но теперь прочь мысли о старости! Теперь жизнь снова получила смысл! Теперь все, что он и все другие некогда проделали и вытерпели, будет оценено по заслугам. Газеты вытащили на свет божий и возвели в подвиг все, что пришлось претерпеть датскому народу за сто лет. И сам король сидел у себя в столице и жаждал увидеть своих и отечества верных сынов. Их встретят фанфарами, а их вступление с Копенгаген превратится в настоящее торжество. И будет это воздаянием за то тяжкое возвращение после окончания войны, когда они, крадучись, прижимаясь к заборам и к стенам домов, в кромешной тьме входили ночью в столицу.
Пришлось чертовски долго ждать, пока на прошение Сэрена Йепсена пришел, наконец, ответ. Составлен он был довольно туманно; но за частоколом высоких слов о ветеранах войны, этих лучших сынах отечества, нетрудно было прочитать скрытый в них подлинный смысл: пусть, дескать, Сэрен Йепсен лучше пожалеет свои старые кости да посидит дома.
Старый батрак был безутешен.
— Чем же еще меня можно попрекнуть, кроме того, что мне стукнуло семьдесят пять? — то и дело горестно спрашивал он. Ведь медаль-то он получил — всякий может собственноручно прощупать место в плече, куда попала прусская пуля, отскочившая от лопатки. Еще и теперь там такое углубление, что целый палец в него войдет. И произошло это оттого, что он, не обращая внимания на ранение, продолжал драться и перевязку ему наложили уже тогда, когда пруссаки взяли его в плен. К этому времени рана его так воспалилась, что немец-врач вынужден был удалить часть лопатки.
Невелико было утешение, что и другие ветераны получили такой же ответ. Им тоже было сказано, что они сделают лучше, если останутся дома. Но кто же их, в таком случае, заменит? Ведь празднование все равно состоится. Йенс Воруп был возмущен за своего батрака и послал в газету резкую заметку. «Именно так, — писал он, — восстанавливают малых мира сего против общества и превращают их в отщепенцев». Появились еще и другие протесты. И в последнюю минуту из Копенгагена пришло извещение, что старики все-таки могут приехать на торжества. Но у многих из них уже пропала к тому охота.