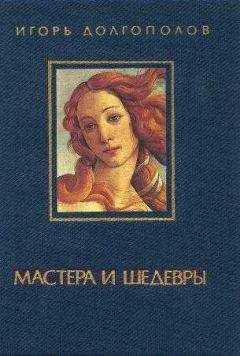Жених, выбирающий кольцо невесте.
Александр Иванов решительно разорвал тиски рутины. Использовав добрые стороны академической школы, он быстро достиг самых совершенных высот классицизма.
Об этом говорят его рисунки, эскизы, этюды, картины тридцатых годов. Затем в душе художника происходит мучительная переоценка достигнутого.
Прочтите:
«Рим, октябрь 1836…Кто бы мог думать, чтобы моя картина «Иисус с Магдалиной» производила такой гром? Сколько я ее знаю, она есть начаток понятия о чем-то порядочном… Как жаль, что меня сделали академиком, мое намерение было никогда никакого не иметь чина, но что делать, отказаться от удостоения — значит обидеть удостоивших…»
Это — канун начала работы над картиной «Явление Мессии». Мастер в те месяцы как бы пересматривает все им ранее созданное.
Живописца одинаково не устраивали ни консервативные, затхлые каноны академических маэстро, ни полные акцентированного пафоса, несколько театрализованные картины романтиков.
Он пережил свое юное восхищение «Последним днем Помпеи», его душа жаждала иного. Он отлично понимал сложности своего времени.
«Рожден в стесненной монархии, — писал о себе Иванов, — не раз видел терзаемыми своих собратий, видел надутость бояр и вертопрашество людей, занимавших важные места».
Евангельский сюжет в грандиозной композиции «Явление Мессии» был лишь предлогом показать зрителю процесс раскрепощения души, вечного стремления человека к свободе, свету, правде.
Но воплощение столь сложной, психологической, композиционно трудной картины требовало иного, более совершенного пластического языка.
И Александр Иванов прощается со своим блестящим классицизмом и, как бы минуя опыты романтиков, начинает работать на натуре.
Более шестисот этюдов — пленэрных пейзажей, портретов пишет художник. В них он раскрывает себя как живописец-новатор.
Девочка альбанка в дверях.
Язык этих маленьких шедевров — реализм в самом высоком, современном значении слова.
Так в истории русского и, не побоюсь сказать, мирового искусства был совершен рывок от рутинного академизма к реалистическому видению мира.
Это была новация.
Подобный процесс во французском искусстве растянулся на столетие: Давид, Жерико, Делакруа, Энгр, Мане, Курбе.
И наоборот, внимательно изучив чудесный этюд Иванова «На берегу Неаполитанского залива», понимаешь, что он, по существу, реализует на полвека раньше мечты Поля Сезанна о работе над моделью на пленэре…
Но обратимся вновь к Александру Иванову и еще раз прочтем его размышления: «Высоким вообще называют все, возвышающее нас превыше того, что мы были, и в то же время заставляющее нас чувствовать сие возвышенное».
Это станет понятным, когда мы вспомним об общении Иванова с Гоголем и Тургеневым, Герценом и Огаревым, Сеченовым и Чернышевским.
Может быть, от них, а может быть, сам (художник много читал, изучал философию) узнал он слова Гегеля:
«Всемирная история есть прогресс в сознании свободы, — прогресс, который мы должны познать в его необходимости».
Взгляните на фигуру поднимающегося раба, введенную позже в уже переименованную автором картину «Явление Христа народу» (заметьте, прибавлено слово «народ»), и бросьте взгляд на встревоженных римских всадников, представляющих великую империю, и вы поймете «второй план» картины как призыв к освобождению от духовных уз, к разоблачению всякого вида тирании и деспотизма.
Так при ближайшем рассмотрении осмысливается евангельская тема, взятая академиком петербургской императорской Академии — Александром Ивановым…
Феномен творческого подвига Александра Иванова заключается в том, что, будучи уже сложившимся, великолепным мастером, имея за плечами опыт создания нескольких станковых картин, он с невероятной энергией и упорством, будто бы забыв об открывшейся дороге к славе, начинает новый страдный путь.
Надо поражаться характеру и воле живописца, открывшего новую красоту в живой натуре и сумевшего сочетать это со строжайшим классическим композиционным строем и великолепным, поистине рафаэлевским рисунком. Александр Иванов впервые в мире внес натурные пейзажи в картину, поэтому колорит «Явления» необычайно светоносен, лучезарен: валер, столь сложный для огромного холста, пронизывает тем не менее все пространство.
Портрет Н. В. Гоголя.
Новаторам в живописи, как правило, всегда приходится туго.
Драма судьбы Александра Иванова была страшна.
Его, гениального художника, почитали странным человеком, почти свихнувшимся чудаком.
Ну как было понять ординарным чиновникам из Академии, что их коллега, академик, может возиться годами со злополучным холстом, требуя, прося, моля бесконечно отсрочек, оттяжек сдачи работы.
Но сам Александр Иванов свято и непреклонно следовал заданной мечте.
Он дерзал.
Пусть была давно заношена и протерта до дыр крылатка.
Пусть он ест черный сухой хлеб и пьет воду…
Пусть…
Но зато живописец знает, что пишет свои холсты кистью, на острие которой горит солнечный свет.
Он искал правду.
Ему был глубоко чужд банальный псевдоклассический, заимствованный на Западе ходульный и пошлый, почти салонный стиль исполнения картин, претило отсутствие патриотизма у петербургских ценителей искусства.
«Быть русским — счастье», — заявляет Александр Иванов.
И в ответ на хулу любителей Запада он гордо писал о будущем русской живописи:
«В нашем холодном к изящному веке я нигде не встречаю столь много души и ума в художественных произведениях, — не говоря о немцах, но сами итальянцы не могут сравняться с нами ни в рисовании, ни в сочинении, ни даже в красках. Они отцвели, находясь между превосходными творениями своих предшественников. Мы предшественников не имеем. Мы только что сами начали — и с успехом… Мне кажется, нам суждено ступить еще далее».
… Войдите в огромный светлый зал Третьяковки и окиньте взором бесчисленный ряд холстов Иванова.
Все в этом художнике необыкновенно.
Путешественник.
Таинственна мощь его огромной картины.
Но и не менее чарующи маленькие полотна, изображающие то зеленую ветку оливы на фоне безоблачного синего неба, то сизый туман над безмерными просторами понтийских болот, то выгоревшую от палящих лучей солнца равнину и Аппиеву дорогу, окруженную древними руинами.
Великая тишина царит в работах Александра Иванова.
Никакого намека на жестикуляцию, позерство, эффектность.
Обернитесь. И перед вами в том же огромном зале предстанет мир Карла Брюллова — великолепного художника, прекрасно изображавшего внешность человека, но не всегда заглядывавшего в его душу.
Роскошные бархатные драпировки, дорогие ковры, сверкающие жемчужины, украшающие волооких красавиц, — все, все его герои глядят на вас то томно, то строго, то гипнотически загадочно.
Журчит струя родника у ног очаровательной Вирсавии, шуршат шелка и атласы придворных дам, блестят бронза, мрамор.
Вороной конь несет юную всадницу, и мы слышим цокот копыт.
Но обернитесь вновь.
И опять объемлет тишина. И десятки людей в этюдах Александра Иванова словно не замечают вас: художник обращается к их внутренней жизни. Как ни поразителен Карл Брюллов, — Александр Иванов открыл новую страницу в истории русской и мировой живописи.
Написав эти строки, я задумался.
И не зря.
С легкой руки некоторых западных искусствоведов родился миф «провинциальности» русского искусства. И как ни странно и ни нелепо, но нашлись и у нас соотечественники, которые эту убогую версию охотно поддержали.
Так возникла легенда об отставании русской живописи от европейской, хотя уже в первой половине того же XIX века изумительные портреты Ореста Кипренского и «Последний день Помпеи» Карла Брюллова «пробили окно» в Европу.
Казалось, каждому уже стало ясно, что русская школа живописи сильна и здравствует.
Прожив немало лет в Риме, Александр Иванов с иронией замечал, что для того, чтобы картина, написанная русским мастером, понравилась в Италии, надо писать втрое лучше местных художников — лишь это принудит иностранцев уравнять ее с произведениями своих живописцев.
Рим. Январь 1831 года.
Резкий, пронизывающий ветер гудит в руинах древнего Колизея.
В зияющие черные провалы аркад светит луна.
В трепетном свете ее лучей дико громоздятся странно мерцающие седые глыбы грубого камня — травертина.
Среди развалин амфитеатра на сколе мрамора — фигура юноши. Он рисует.
Порыв леденящего ветра распахнул плащ, вырвал из рук альбом. Молодой человек торопливо нагнулся, поднял папку.