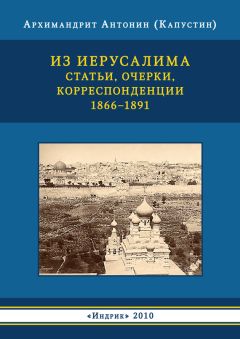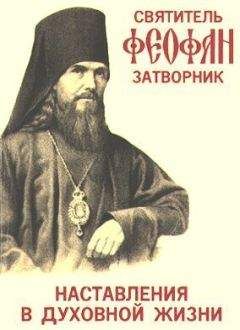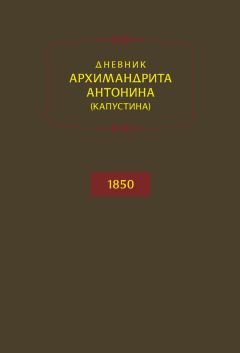Ознакомительная версия.
Мы осведомились, что служба начнется около 8 часов вечера. Ранее этого времени мы были уже во храме, который не затворялся сегодня на все продолжение службы. Солдаты, поставив в козлы ружья, расхаживали по площади перед храмом, ожидая приказания занять урочные места в церкви и быть невольными участниками чужой молитвы.
В самом храме народа оказалось менее, чем можно было ожидать. И то большая часть его, по обычаю, были наши поклонники, в особенности же поклонницы, радующиеся всякому случаю побыть у Гроба Господня, а на сей раз пришедшие, конечно, без всякой мысли о латинской Великой пятнице. Десятка два или три их столпились за алтарем собора, в приделе Колонны[125], слушая, вероятно, правило, читаемое одною из их же среды. Обходя галерею, мы остановились в виду их и мой переводчик – из греков – сказал, что землячки мои превосходят всякую меру хвалы и что не только греки, но все вообще, живущие и бывающие в Иерусалиме, не надивятся их глубочайшему благочестию и величайшему терпению. Сидеть и лежать на каменном полу, вокруг Гроба Господня, в течение дня и ночи, для них (говорил собеседник) не только не тяжко, но просто до восторга желанно и радостно. В соседнем приделе Разделения риз[126] стояло несколько дам с зажженными свечами, – видимо, поклонниц запада. Они не напоминали собою ни в каком случае столпленного стада, но и ни малейшего повода не подавали к заключению, чтобы, хотя одна из них, хотя одну минуту, решилась посидеть на голом каменном полу.
К 9 часам вся галерея была очищена от народа. Оба придела равно опустели. Из латинской капеллы стали выноситься звуки жалобного пения. Показались 14 мальчиков, одетых так же как вчера, шедших в два ряда со свечами и тетрадками. За ними вышли бет-жальские питомцы, тоже со свечами и тетрадками, потом – монахи и священники – все без исключения в белых камизах[127] с свечами и книжками. Затем два клирика, вероятно – диаконы, в черных с золотым шитьем стихирах, несли по серебряному пузырьку. Вослед им шли другие два, так же одетые, несшие большей величины серебряные же сосуды, имевшие фигуру ананаса с крестом на одном и двуглавым орлом на другом из них. Сосуды эти, конечно, вмещали в себе ароматы для мнимого умащения мнимого Мертвого или только предназначались к тому. За ними несли два подсвечника, и среди их высокий крест с резным из дерева Распятым, склонившим голову, осененную непомерно большим терновым венцом. Следом за Распятием шли два священника в полном богатом облачении из черного бархата с золотым шитьем, и наконец – сам епископ, тоже в полном облачении, такого же цвета и свойства, в митре и с жезлом. За епископом несли его складное кресло. Непосредственно за креслом шел, знаменитый уже по делу о куполе Гроба Господня, г. де Баррер, французский консул[128], за которым также несли его «императорское» кресло. Наконец, двигалась толпа народа со свечами.
Процессия направилась к востоку и медленно огибала греческий алтарь, наполняя галерею трогательными звуками поистине похоронного пения. Она, не останавливаясь, минула придел Лонгина Сотника[129] и достигла подобного же придела Разделения риз, находящегося в самой крайней восточной точке храма. Здесь все остановились. Держащие крест, сосуды и подсвечники стали рядом, лицом к приделу и спиной к греческому алтарю. Епископ сел с левой стороны их в свое походное кресло. За ним то же сделал ревнивый к своему достоинству консул. Прочее духовенство стояло, где кого застигла минута, бетжальцы и дети уселись на ступеньках приделов. Пение прекратилось. На высоком помосте придела Разделения риз, между двумя колоннами, показался священник, одетый, как и все другие, но с епитрахилем на шее. Громким, но сиплым голосом он сделал обращение к епископу и всему собранию частью по-итальянски, частью по-гречески. Переводчик мой встрепенулся, услышав слова родного языка, и сказал: «А! опять ты, приятель. Ну, потолчи еще раз ту же воду».
Проповедник избрал темой для своего поучения слова: распеншии Его разделиша ризы Его, вергше жребия (Мф. 27, 35), и стал доказывать, что разделение одежды Господней было последним и самым тяжким мучением для Господа; ибо оно было предвестием разделения не только одеяния, но и самого таинственного тела Его, т. е. Церкви. Став раз на эту точку зрения, проповедник все, что мог, привел в доказательство того, что еретики и схизматики раздробили на части единую Католическую Церковь и до сих пор продолжают мучить Распятого. Оратор не в первый раз уже проповедует в этот день на святых местах. Он родом с острова Тино, потомок греков, олатинившихся еще во время франкских владений в Архипелаге. Подобно всем своим единоплеменникам, он отличался при сем такою живостью, свободою и как бы фамильярностью со всеми, что в глазах нас, русских, поистине заслуживал удивления не меньшего, чем дивление грека труду и подвигу наших поклонниц.
Слово его лилось, можно сказать, не задерживаясь ни на одну секунду. Он делал беспрерывные движения руками и головой, многократно снимал скуфейку, перебегал от колонны к колонне и многократно, казалось, грозил кулаком воображаемому перед собой схизматику (надобно знать, что по всему пространству галереи стояли только в два ряда одни духовные, участвовавшие в процессии, а перед глазами оратора была алтарная стена собора). В обличение схизмы или «так называемого православия» он приводил свидетельства святых отцов: Афанасия Великого, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, Кирилла Александрийского, Иринея, Киприана, Иеронима, Августина, присовокупив, что все вообще отцы Церкви считали Римский престол средоточием Христовой Церкви, – упрекал схизму тем, что в ней есть «народные» церкви, тогда как в истинной католической церкви все народы составляют одно нераздельное целое и не именуются. (Переводчик: «A "sanctam Ecclesiam Romanam"? A "Ecclesia Gallicana?" – не именуются[130]!! Потерянный (χαμένε)[131]!) «И это православие?» – восклицал проповедник не раз, на что переводчик мой отвечал язвительно: «Не нравится преисподнему волку[132] наше православие!» После долгой и страстной филиппики проповедник неожиданно остановился и, как бы сам про себя, сказал: «Но кому я говорю? Я знаю, что разделившие Церковь останутся глухи к словам моим. У них только Фотий да Кируларий, больше сего они знать ничего не хотят. В этом все их православие! Армянин верит своим Евтихию и Диоскору, о кафоличестве же Церкви и не думает. Русский знает только своего Императора да Синод, а до первоверховного (апостола Петра) ему нет никакого дела. Лютеранин держится за своего Лютера да Кальвина»…
Перебрав всех раздирателей тела Христова, строгий обличитель указал на то, что осталось от него цело и неприкосновенно, т. е. на Церковь, которая одна, согласно с Никейским Символом веры, не называется ни восточною, ни русскою, ни всякою другою частною, а именно католическою церковью (Переводчик: «О лукавец! Прибавь: ни западною, ни римскою»..). В заключение вопиющий в пустыне стал грозить всем врагам «Святого Стула»[133] тем, что Христос оставит их и уйдет от них… С полчаса длилось живое и одушевленное, но видимо заученное, слово бойкого сына Еллады, занимающегося праотеческим ремеслом продажи душ человеческих (Иез. 27, 13) на берегах Сирии. Говорил он языком простонародным, вовсе не слышимым теперь на церковной кафедре, и во многих местах мог бы вызвать самый веселый смех в слушателях, если бы таковые были. Такого мнения, по крайней мере, был мой классически-ученый переводчик. Удар в ладоши дал знать голове процессии, что проповедь кончилась и что надобно петь. Возобновившийся умилительный мотив погребальный заставил скоро забыть и даже простить неистовство грека, поносившего Церковь отцов своих их родным языком.
Через 10–12 шагов процессия снова остановилась перед приделом Колонны. На помосте его, под среднею аркою, стоял уже францисканец средних лет, смиренной наружности, в одном одеянии своего ордена. Ровно, спокойно и как бы бездушно начал он свое слово обращением к Распятию. Я долго не мог понять, что за наречие то, на котором он говорил. Между множеством неразумеемых слов неожиданно попадались звуки родного языка. Оказалось, что смиренный проповедник гласил смиренным наречием болгарским. Не зная по-болгарски, я не могу сказать, в какой степени здесь, у нерушимого и неизменного памятника страданий Божественного Учителя истины, к чистому христианскому назиданию примешивались в учительном слове нечистые струи пропагандической системы заблуждения и обольщения. Не мог также я решить и того, к какой народности принадлежал сам проповедник. Преобладающая интонация предпоследнего слога как бы давала разуметь, что болгарство тут было подставное и что францисканец-оратор мог принадлежать к другой ветви славянства, посылающей свои отребья зарабатывать кусок хлеба в «свободной и гостеприимной» империи, под знаменем либо серебряной луны, либо золотых ключей[134]. «Неверные» полки казаков и иезуитов не внушают опасения раздирающемуся по швам царству, почивающему на вере в предопределение[135]! Во всяком случае, приятно было видеть, что славянин-папист был несравненно умереннее паписта-грека, распинавшегося за чуждое ему латинство. Не знаю только, кто из них глубже верил тому, что говорил… Но тут неизбежен вопрос особенного рода: для кого говорилась та и другая проповедь? Еще можно было предполагать, что в пролетах греческого алтаря скрываются, может быть, два-три слушателя грека, которых приятно было поразить невозбранным словом мщения. Но для кого предназначалась болгарская проповедь? Для слушателей in partibus?[136]…
Ознакомительная версия.