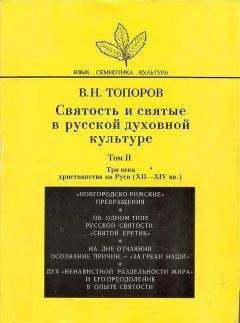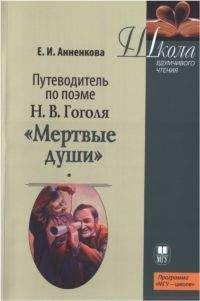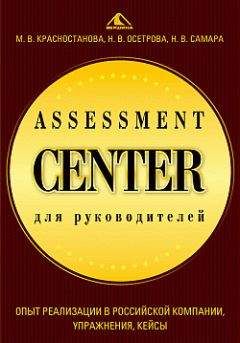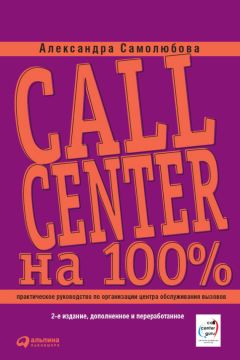677
Ср. в Патерике:
Помысли сего князя, его же не единъ князь в Руси сотвори, волею бо никто же вниде в чернечество. В истинну сей болей всех князей Рускых.
(Абрамович 1930:118).
Важная частность — национальное многообразие персонажей, выступающих в Патерике, — русские, греки, половцы, угры, «обезы», армяне, сирияне, ляхи, «латиняне» и т. п.
В тесной связи с мирским обществом Федотов 1959:45 видит Феодосиев «завет русскому монашеству».
Во всяком случае его можно предполагать на основании обращения Феодосия к братии в его слове «О терпении и любви»:
Лепо бо бяше намъ отъ трудовъ своихъ кормити убогая и странны я, а не праздным пребывати, преходити отъ келии въ келию.
Преемник Феодосия по игуменству, Стефан, так же, как и Феодосий, выступает как духовный отец среди киевских бояр.
Ти тако христолюбивый князь насыщашеся медоточьныихъ техъ словесъ и иже исхожааху от устъ преподобьнааго отьца нашего Феодосия и велику пользу приимъ отъ него, иде въ домъ свой славя Бога. И от того дьне большиими начать любити и, тако имяше его, яко единого отъ прьвеихъ святыихъ отець и вельми послушааше его и творяаше вся повеленая ему от великааго отьца нашего Феодосия. (41а).
Впрочем, даже благочестивый князь Изяслав ведет себя тиранически по отношению к монастырю и его братии в случаях, когда считает затронутыми свои интересы. В уже упоминавшемся конфликте, возникшем из–за ухода в пещеру Варлаама и Ефрема, князь «разгневася зело» и приказал привести к себе великого Никона, «дръзнувша таковаа сотворити». С гневом обращается он к нему и ставит перед ним жесткую альтернативу — «Или увещавь их в дом свой поити, или на заточение послю тя и сущаа с тобою, и печеру вашу раскопаю». И то, что князь, в конце концов, отказался от своих требований, не его заслуга. Но, напротив, заслугою Феодосия, видимо, является то, что с ним князь Изяслав не позволял себе таких поступков.
В летъ [1073 — В. Т.] — Воздвиже дьяволъ котору въ братьи сеи Ярославичихъ. бывши распри межи ими. быста съ собе Святославъ со Всеволодомь. на Изяслава. изиде Изяславъ ис Кыева. Святослав же и Всеволодъ внидоста в Кыевъ. месяца. марта. 22. И седоста на столе на Берестовомь. преступивше заповедь отню. Святослав же бе начало выгнанью братню. желая болшее власти… А Святославъ седе Кыеве прогнавъ брата своего. преступивъ заповедь отню. паче же Божию. велии бо есть грехъ преступающе заповедь отца своего.
(Лавр. летоп., 182–183).
Эту любезность можно понимать и как деликатно объявленное прощение–милость и уведомление о том, что он, Святослав, зная о симпатиях игумена к изгнанному князю, готов смотреть на них сквозь пальцы, пренебречь ими, забыть о них и надеется теперь на столь же хорошие отношения между ним и Феодосием.
Это могло бы быть объяснено даже характерным упоением Господнева, ощущением некоей его сладости («Есть упоение в бою…»).
Нужно полагать, что у Феодосия были и более «официальные» и открытые способы довести до общественного мнения свой духовный суд над происшедшим и его участниками.
Феодосий знает, что долг требует его исполнения и что он выше различения и выбора между победой и поражением, выше личной судьбы, выше любых плодов, связанных с исполнением долга. Он не знает тех сомнений, которые испытывает Арджуна перед битвой на гибельной земле Курукшетры, и он не нуждается в советах, подобных тем, которые дает Арджуне Кришна (Bhagavadgita, I). Феодосий и без этого, сам знает, что «то, что сделано здесь, не гибнет», что «лишь на действие будь направлен, / от плода же его отвращайся» (I, 38, 40, 47 и др.) и т. п. Обилие параллелей с «Бхагавадгитой» вскрывает тайный нерв всей этой ситуации, человеческого типа в ней участвующего и возможных выводов из описываемой ситуации.
Ср.:
Но обаче онъ, аще и вельми разгневалъся бе на блаженааго, но не дерьзну ни единого же зъла и скорьбьна сотворити тому, видяаше бо мужа преподобьна и праведьна суща его. Якоже преже многажьды его ради завидяаше брату своему, еже такого светильника имать въ области своей, якоже съповедаше, слышавъ от того, черноризець Павелъ… Блаженый же отець нашь Феодосий, много молимъ бывъ от братье и от вельможь, наипаче же разумевъ, яко ничесоже успешьно сими словесы тому, остася его, и оттоле не укаряаше его о томь, помысливъ же въ себе, яко уне есть молбою того молити, да бы возвратилъ брата си въ область свою. (58г–59а).
Не по мнозехъ же дьнехъ разумевъ благый князь то преложение блаженааго Феодосия от гнева и утешение, еже от обличения того, воздрадовася зело, издавьна бо жадааше беседовати съ нимь и духовныихъ словесъ его насытитися. Таче посылаеть къ блаженому, аще повелить тому прити въ манастырь свой или ни? (59б).
Интересно, что «благим» в ЖФ князь стал, как только утих гнев Феодосия и он перестал обличать Святослава (59б).
И такоже пакы по мнозей той беседе отъиде князь въ домъ свой, славя Бога, яко съподобися съ таковыимь мужемь беседовати, и оттоле часто приходяше къ нему и духовьнаго того брашьна насыщаяся паче меду и сота: се же суть словеса блаженааго, яже исходяахуть от медоточьныихъ устъ техъ. (59в–59г).
Многашьды же великый Феодосий къ тому хожаше и тако въспоминаше тому страхъ Божий и любовь еже къ брату. (59г).
Возможно, сам Феодосий не заводил прямых разговоров на эту тему, но иногда как бы «срывался», невольно вызванный тем или иным неосторожным высказыванием князя.
Наконец, нужно помнить и «не–личные» контакты Феодосия с теми, кто вне монастыря, ср. его эпистолии, послания к князьям Изяславу и Святославу, наконец, два поучения, обращенные к народу (см. далее).
В связи с темой труженичества Феодосия, соотношения его «физических» и духовных «работ», их связи со сферой «этического» уместно упомянуть и о том более широком контексте, который позволяет прояснить эти проблемы в свете опыта века сего. Здесь придется ограничиться некиим минимумом, но и он может быть обозначен лишь в некоторых избранных чертах и притом кратко — настолько, насколько эта краткость все–таки позволяет осуществить сопряжение ситуаций начала и конца нашего тысячелетия.
Прежде всего, если говорить о русской философско–религиозной традиции, нужно отметить книгу С. Н. Булгакова «Философия хозяйства» и то, что самим им рассматривалось как продолжение или дополнение этой книги (см. Булгаков 1912; 1916; 1917). Преимущественного внимания заслуживают идея софийности хозяйства как внутренней движущей силы и основании его и о характере связи Софии с хозяйством («Человеческое творчество в знании, в хозяйстве, в культуре, в искусстве софийно»; ср. о религиозном обосновании взаимоотношения человека и мира и о внутренней связи Бога и мира как Софии); определение духа хозяйства как творчества, в котором осуществляется синтез свободы и необходимости («Поэтому и хозяйство — как в широком, так и в узком, политико–экономическом смысле — тоже есть творчество, синтез свободы и необходимости […] хозяйство, рассматриваемое как творчество, есть и психологический феномен, или, говоря еще определеннее, хозяйство есть явление духовной жизни в такой же мере, в какой и все другие стороны человеческой деятельности и труда. Дух хозяйства […] есть опять–таки не фикция, не образ, но историческая реальность. Всякая хозяйственная эпоха имеет свой дух и, в свою очередь, является порождением этого духа, каждая экономическая эпоха имеет свой особый тип "экономического человека", порождаемый духом хозяйства […] Понимание хозяйства как явления духовной жизни открывает глаза на психологию хозяйственных эпох и значение смены хозяйственных мировоззрений. Им выдвигается также чрезвычайно важная проблема […] — именно о значении личности в хозяйстве. Понимание хозяйства как творчества, дающее место свободе, приводит также к проблемам этого хозяйства и его эсхатологии […]»); рассмотрение феноменологии хозяйства и понятие трансцендентального субъекта хозяйства («Человек есть микрокосм, распространяющий свое влияние в макрокосме. Этому микрокосму принадлежит центральная, единящая роль в макрокосме, образующем для него периферию, а вместе с тем и объект хозяйственного воздействия. Человек представляет собой как бы "стянутую вселенную"[Шеллинг], а космос — потенциальное поле человека. […] Понятие трансцендентального субъекта хозяйства есть поэтому лишь особое, приуроченное к проблеме экономизма, выражение той идеи, которая с древности известна философии: это не что иное, как мировая душа учений Платона и Плотина, Бёме и Шеллинга, Баадера и Вл. Соловьева. Здесь мировой демиург […] выступает под личиной хозяйствующего человечества, не в героической маске или вакхическом исступлении, но в рабочем фартуке и с трезвой расчетливостью. — Хозяйство, понятое достаточно широко, не есть подъяремная работа скота, но творческая деятельность разумных существ, необходимо осуществляющих в ней свои индивидуальные начала, индивидуальности же присуща свобода, даже более, следует сказать, что она и есть эта самая свобода, и если свобода есть творчество, то индивидуальность есть подлинно творческое в нас начало, которое неугасимо и неустранимо и в хозяйстве»).