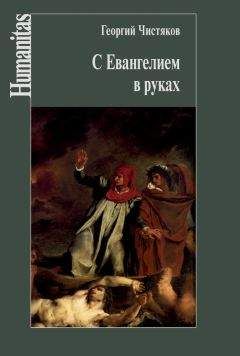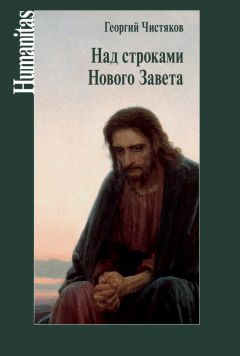Об этом же говорится в гомеровской «Одиссее», где описывается, как «…помышляет о сладостном вечере пахарь, день целый / Свежее поле с четою волов бороздивший могучим / Плугом.» Он весело провожает склоняющийся к западу день и «тащится тяжкой стопою домой», чтоб «готовить свой ужин».
Именно на это ясно указывают слова: «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит». Стихами Горация навеяна не только мысль о деревне (O rus!.. – эпиграф ко второй главе «Онегина» – ясно говорит о том, что Пушкин помнил эти тексты римского поэта); само начало этого стихотворения представляет собой почти прямую цитату из оды Горация (II, 16), которая начинается словами «О покое среди бури просит…» Римский поэт говорит о том покое, который приходит на смену труду и опасности и, увы, почти никогда невозможен, но никак не о внутренней тишине, что противостоит шуму и пороку.
Beatus («блажен») – говорит в I веке до н. э. Квинт Гораций Флакк о земледельце, который со своими быками возделывает отцовское поле, целыми днями обливаясь потом и безмерно уставая. Именно это латинское слово возьмет блаженный Иероним в IV веке н. э., чтобы при его помощи передать еврейское ашер или греческое μακάριος – «блаженный», иными словами – близкий к Богу, чувствующий Бога и созерцающий Его, кроткий и чистый сердцем. Всякий, кто имеет хотя бы какое-то представление о переводчике Вульгаты, поймет, что Иероним выбрал это слово не случайно, – он взял его у Горация, стихи которого хорошо знал и любил.
Пушкин очень хорошо знает, что такое труд, и понимает, что otium (покой, досуг или отдых) возможен только после труда и принципиально недостижим для того, кто бежит от труда и усталости; в этом контексте нельзя не вспомнить средневековое otium post negotium, означающее, что отдых возможен не вместо, но лишь после дела.
Однако Пушкин не просто цитирует Горация, но идет много дальше. Он вводит в свой текст слово «сердце», которое сразу, как некогда это было в случае с Иеронимом, придает словам, взятым у римских поэтов, новый, библейский смысл, а деревню называет «обителью», употребляя славянизм, заставляющий читателя думать не о жизни на лоне природы и не о Михайловском, а о монастыре. Делает это Пушкин не случайно. Он (как и Иероним) знает, что между покоем, о котором говорит Гомер, описывая усталого пахаря, и покоем безмолвствующего монаха есть что-то общее. И действительно – еще апостол Павел призывал своих читателей есть свой хлеб, работая в безмолвии, и не унывать или, вернее, не медлить, делая добро (2 Фес 3: 12–13).
«Безмолвие» – ησυχία греческого оригинала и silentium латинского перевода Иеронима – это, без сомнения, не покорность внешним обстоятельствам, а именно то внутреннее состояние, достичь которого считает необходимым человек, не устававший повторять своим собеседникам: «Непрестанно молитесь» (1 Фес 5: 17 и др.). Достижимо оно лишь в том случае, если ты трудишься (Павел многократно напоминает, что на жизнь себе и своим близким он зарабатывает своими руками) и помогаешь другим, спеша делать добро.
Святой Бенедикт напомнил об этом формулой ora et labora[44], а еще до него это сделал Иероним, который всю аскетическую лексику Нового Завета перевел как раз теми словами, которыми любимые им римские поэты говорят о труде земледельца или ремесленника.
Тема, в греческом тексте Писания обозначенная, но не подчеркнутая, в его латинском варианте вышла на первый план. Безмолвие не есть уход из реальности, практикуемый индийскими аскетами, а нечто совсем другое. Ora et labora – молитва без труда невозможна.
Однако именно об этом компоненте безмолвия и монашеского бегства – беги, молчи, погрузись в тишину – начисто забыли романтики, не без влияния которых Тютчев написал свое, на первый взгляд аскетическое, стихотворение. И забыли не только они, но многие настоящие аскеты Нового времени, для которых монастырь стал местом ухода от реальности с ее проблемами, заботами и болью.
Фалес, один из семи мудрецов древней Эллады, доказывал некогда, что счастливым может быть только человек, у которого нет родных или близких, ибо ему будет не за кого волноваться. Именно эта, далеко не христианская, формула счастья начала временами звучать и в монашеской жизни, причем как на Западе, так и на Востоке. Определенный вклад в ее утверждение в практике духовной жизни внесли те богатые люди, которые, сделав большой взнос, уходили на старости лет в монастырь, чтобы последние годы провести в благословенной тишине и вдали от всякого шума.
Распространение «дистиллированной», очищенной от боли бытия и ответственности за мир и за тех, кто живет за стенами обители, духовности во многом связано с янсенизмом. В XVII веке последователи Корнелия Янсена, бывшего епископом города Ипра, «стараясь соблюдать безупречную чистоту нравов и религиозных устоев» (так напишет потом Бальзак), противопоставили себя большинству своих современников и, желая отгородиться от тех, кто погряз в грехах и скотском житии, создали так называемую «Малую церковь», в которую вошли лишь достойные.
Для грешников, таких, «как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь» (Лк 18: 11), путь сюда был закрыт. Однако царили тут (прежде всего в находившемся поблизости от Версаля монастыре Пор-Руаяль) совсем не ханжество и не гордыня (образ евангельского фарисея нельзя понимать примитивно), а в высшей степени мирная и чистая атмосфера, любовь и кротость, но только в дистиллированном виде.
Романтики усвоили именно это «очищенное» христианство – то ви́дение мира, которое почти не замечает всего, что некрасиво, страшно и связано с болью. Однако и в первой половине XIX столетия были люди, которые сумели пойти много дальше. Одним из тех, кто сумел преодолеть романтически понятое христианство и одновременно тот духовный ригоризм, влияния которого не избежал и Паскаль, был Оноре де Бальзак.
В том же 1833 году, что и стихотворение Тютчева Silentium (только не весной, а осенью), увидел свет роман Бальзака «Сельский врач», главный герой которого делает слова fuge, late, tace – «беги, скрывайся, молчи» – чем-то вроде своего девиза. Доктор Бенаси обнаружил их в Гранд-Шартрезе, на двери одной из келий.
Бальзаковский герой рассказывает о том, как он, плененный уставом ордена святого Бруно, отправился пешком в обитель этого святого. «Я даже не ожидал, – рассказывает доктор Бенаси, – что такое сильное и глубокое впечатление произведет на меня этот путь, где на каждом шагу видишь природу в ее непостижимом могуществе… скалы, пропасти, потоки, наполняющие тишину глухим рокотом. Я посетил монастырь Гранд-Шартрез, бродил под безмолвными древними сводами, слушал, как под аркадами, сбегая капля за каплей, звенит источник.»
Перед нами – типично романтическое описание монастыря: именно так рассказывает Шатобриан о монастырях в горах Ливана, которые он посетил на пути из Афин в Иерусалим. Но вдруг всё меняется. Бенаси вчитывается в надпись на двери, думает о том, что стены кельи, обшитые еловыми досками, жесткое ложе, уединение – в общем, всё соответствует его душевному состоянию, и тут останавливается.
«Я понял, что в основе монастырского уединения, – говорит Бенаси в романе Бальзака, подчеркивая тут же, что не собирается осуждать Церковь, – заложен своего рода возвышенный эгоизм. Такое уединение идет на благо лишь тому, кто удалился от мира. Я же предпочел жить так, чтобы раскаяние мое принесло обществу пользу… вступил на путь молчания и самоотречения. Fuge, late, tace картезианцев стали моим девизом, труд мой – действенной молитвой».
Сельский врач, бывший в прошлом городским щеголем, а теперь живущий среди крестьян и похожий на них внешне, Бенаси становится народным святым. Когда он умирает, его хоронит вся округа: «Гроб несли в церковь четыре самых престарелых жителя общины… почти все стояли на коленях, как во время крестного хода. Церковь всех не вместила. Началась служба, и тотчас же смолкли рыдания, воцарилась такая глубокая тишина, что звон колокольчика и пение слышны были и в конце улицы».
Итак, деятельная святость не есть антипод молитвы и созерцания. Одно вырастает из другого, и, более того, одно без другого немыслимо и невозможно. Вообще слово «тишина» в этом романе Бальзака – одно из ключевых. Fuga, к которой призывает авва Арсений в словах fuge, tace, quiesce, – не бегство, но бег; не откуда, но куда, – не от мира, а к Богу. Христианин – это тот, кто спешит на помощь. Иисус показал человечеству именно этот и никакой другой путь. Без всякого сомнения, это определение относится и к иноку.
Молчание – это не уход в самого себя, не бегство от людей и не способ защититься от мира, который погряз во зле. Это тот язык, который предлагает человеку Бог, чтобы рассказать о том, что в словах выразить невозможно. У Терезы из Лизье, которая почти никогда не говорит про молчание, в одном из писем к ее сестре Леони высказана следующая мысль: «Я не могу рассказать тебе всё то, что хотела бы, мое сердце не в силах перевести чувства, которые живут в его глубинах, на холодный язык Земли. Но наступит день, и на Небе, там, где находится наша прекрасная Родина, я взгляну на тебя, и в моем взгляде ты увидишь всё, что хотелось бы мне тебе сказать, ибо язык счастливых обитателей Неба – это молчание».