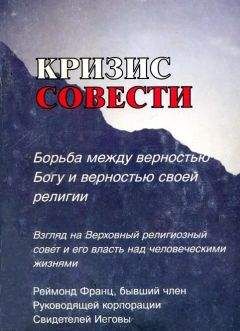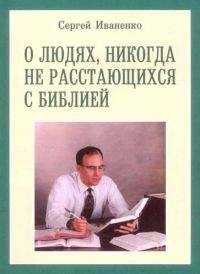Если от первой записи мне стало плохо, то вторая была гораздо хуже. Годинесы вспоминали разговор у себя дома, подчеркивая то из сказанного, что их поразило, и, как я говорил раньше, по–видимому, делали это искренне. Вторая запись основывалась преимущественно на слухах. Но наиболее обескураживающими в ней были высказывания самих работников штаб–квартиры, задававших вопросы.
Бонелли посещал испаноязычную общину, соседствующую с общиной Рене Васкеса. Запись начиналась с того, что Альберт Шредер представил Бонелли как человека, бывшего «служителем» (или «дьяконом») в двух предыдущих общинах, но сейчас таковым не являющегося. Он добавил, что, по словам Бонелли, он не был назначен служителем в этой общине из–за враждебного к нему отношения со стороны старейшины по имени Ангуло.
Затем Бонелли дал свидетельство против этого старейшины (Ангуло был одним из лишенных общения). Он также сказал, что 31 марта после Службы Поминания (Вечери Господней) он пошел домой к Рене Васкесу, где увидел, как жена и мать Васкеса принимают хлеб и вино — символы хлебопреломления[185]. Бонелли сказал, что он также принял хлебопреломление.
Это последнее утверждение вызвало удивленные замечания у тех, кто задавал вопросы, Альберта Шредера, Дейва Олсона и Харольда Джексона (из служебного отдела). Бонелли сказал (я буквально цитирую его слова так, как они звучат на пленке): «Я хорошо шпионю». Он пояснил, что пошел домой к Рене, чтобы добыть информацию[186].
Далее он сообщил, что из слов другого Свидетеля понял, что старейшина Ангуло уже приобрел здание, где он и Рене будут проводить собрания, и что они уже крестили людей в свою новую веру.
В действительности в этих слухах не было ни слова правды. Люди, проводившие расследование, не спросили, где размещалось предполагаемое место собраний или как звали тех, кого крестили. И если бы они попросили предоставить такую информацию, это было бы невозможно сделать, так как ее не существовало.
Далее по ходу записи Бонелли не смог что–то сказать по–английски, и Харольд Джексон, владевший испанским, попросил его высказать это по–испански, а затем перевел фразу на английский язык. Бонелли усмехнулся и сказал: «Английский у меня не очень, зато информация хорошая». Затем раздался голос Дейва Олсона, быстро проговорившего: «Да, брат, вы говорите как раз то, что нам нужно. Продолжайте».
Услышав эти слова, я почувствовал, как будто мне на серддце лег камень. Во всем интервью этот человек не сказал ничего, что можно было бы счесть полезным, если бы целью расследования было помочь тем, кто неверно толковал Писание. Если же нужно было завести дело, добыть обвиняющие, осуждающие свидетельства, — тогда можно было сказать, что он говорил «как раз то, что нужно». Но даже эти предоставленные свидетельства наполовину состояли из совершенно ложных, необоснованных слухов. Каким–то фактам можно было придавать хоть небольшое значение, когда человек придерживался тех взглядов, что религиозная организация имеет право запрещать частные разговоры о Библии среди близких друзей, если эти разговоры не совпадают полностью с учениями организации, а также право осуждать людей, действующих согласно своим убеждениям, даже если это происходит в их собственном доме.
В конце беседы с Бонелли Дейв Олсон спросил, может ли тот назвать имена «братьев», которые в состоянии предоставить сходную информацию. Бонелли утверждал, что об «отступнических» убеждениях было рассказано большому количеству людей. На вопрос Олсона он собщил, что знает «одного брата» в Нью–Джерси, который располагает кое–какой информацией. Олсон спросил, как его зовут. Бонелли ответил, что не помнит, но, наверное, сможет узнать. Олсон сказал: «Но должно быть много других людей, которые могут поделиться сведениями». Тогда Бонелли сказал, что он знаком с некоторыми «сестрами», которые смогли бы это сделать. Как их зовут? Это тоже надо будет выяснить.
Тогда Альберт Шредер поблагодарил Бонелли за помощь в предоставлении свидетельства, посоветовал ему «сохранять Духовную силу, регулярно посещая собрания» и добавил, что, если Бонелли узнает что–нибудь еще, он должен придти к ним.
По–моему, эта конкретная запись как нельзя лучше отражает, какое направление принял весь процесс расследования. расспросов и, в конечном счете, осуждения. Если все Свидетели Иеговы прослушают эту пленку и сравнят ее с тем, что до этого говорила им организация, или с теми слухами, которые дошли до них, ничто другое так не поможет им обрести не однобокую, но уравновешенную точку зрения на все происходившее — на преобладавшую атмосферу, на то, как вели себя люди, связанные с Божьим «каналом» в штаб–квартире. Но у них также должно быть право спросить: «Что было сделано для подтверждения свидетельства этого человека, для отделения фактов от слухов»? «Почему подобное свидетельство показалось работникам штаб–квартиры таким ценным, «как раз тем, что нам нужно»?
Мне кажется, вероятность того, что организация даст прослушать эту запись (без всякого редактирования) и позволит задать эти вопросы, практически равна нулю. Я полагаю, что они скорее ее уничтожат, нежели допустят подобное. Я все еще не понимаю, почему Председательский комитет не постыдился дать прослушать эту запись мне.
Руководящая корпорация знала, что через несколько дней после исключения работников штаб–квартиры из организации подобные слухи начали циркулировать внутри Вефильской семьи. «Отступники» основывали собственную религию, проводили отдельные собрания, крестили людей; их новая вера получила имя «Сыны свободы» ~ такие и подобные разговоры велись повсюду. Они были совершенно ложными. Члены Руководящей корпорации, проводившие утренние чтения Библии, многократно упоминали «отступников», но не считали нужным обличить лживость распространившихся слухов. Эти слухи никто не сдерживал, и, в конце концов, они разошлись по всему миру. Тем не менее, любой Свидетель, передавший эти слухи другому, на самом деле произносил, пусть даже не зная об этом, лжесвидетельство против ближнего своего. Единственными людьми, которые по праву могли обличить лживость этих сплетен, а значит, остановить лжесвидетельствование, были члены Руководящей корпорации. Только им известно, почему они этого не сделали. Я не сомневаюсь, что в их числе были и такие, кто искренне верил, что все эти рассказы основаны на фактах. Но я считаю, что с их положением и с тем грузом ответственности, который на них лежал, они обязаны были расследовать дело и помочь другим увидеть, что слухи не соответствуют действительности, что все это выдумки — и не простые, а жестокие и страшные выдумки.
Я не буду доказывать, что все ошибки были допущены одной стороной. Я нисколько не сомневаюсь, что в числе «вызванных на суд» были люди, которые на самом деле высказывали необдуманные соображения. Свидетельства показывают, что одни из самых обвиняющих заявлений были сделаны человеком, который при первых расспросах быстро согласился стать «свидетелем обвинения» и дать показания против другого старейшины. Лично я с этим человеком незнаком, никогда с ним не встречался, не знаю я и другого старейшину. Мне о них совершенно ничего не известно[187].
Мне кажется, что штаб–квартира имела право каким–то образом расследовать дело, получив информацию, которая была предложена их вниманию. Это было бы совершенно естественно. Если они верят, что учат Божьей истине, было бы плохо, если бы они этого не сделали.
Но что мне очень трудно понять и привести в соответствие с Писанием — это действия членов корпорации, стремительная реакция и поспешность, используемые методы: от людей скрывали информацию, хотя речь шла об их жизненных интересах и на карте стояло их доброе имя; изобретались способы получения обвиняющих сведений; чтобы добиться «помоши» в добыче этих сведений использовались принуждение и угрозы лишения общения. Но более всего мне трудно понять продемонстрированный дух — сокрушающий деспотизм, бесчувственный законнический подход, суровость принятых мер. Какие бы неосмотрительные соображения ни были высказаны «подсудимыми», меры воздействия их намного превзошли.
Так же, как во времена инквизиции, все права принадлежали расследованию, у обвиняемых прав не было вообще. Следователи считали, что имеют право задать любой вопрос и в то же время отказаться отвечать на вопросы, задаваемые им, — их уклончивость была «практичной», стратегической. Они настаивали на секретности судебных процессов, хотели полностью сохранить их от посторонних взглядов, но, тем не менее, заявляли о своем праве проникать в частные разговоры и личные дела подсудимых. Но всякие попытки обвиняемых сохранить при себе свои личные разговоры назывались хитростью, считались свидетельством скрытого заговора. Члены комиссий хотели, чтобы их действия воспринимались как свидетельство ревностного служения Богу, «открытой истине»; при этом они усматривали в действиях обвиняемых все самое худшее, не позволяли себе и мысли о том, что подсудимые искренне желают поставить Бога на первое место, стремятся к истине, даже если эта истина противоречила традиционным учениям.