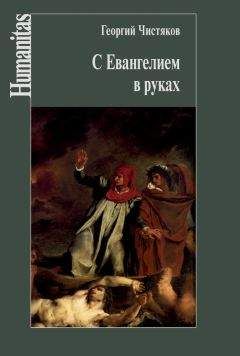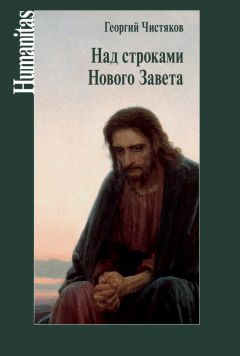В «Алкесте» у Еврипида описывается, как подвыпивший Геракл вступает в единоборство с богом смерти и отнимает у него уже умершую жену царя Адмета, чтобы вернуть ее мужу. Античный герой спасает от смерти только одну женщину, причем, разумеется, не навсегда, а только на те годы, которые она проживет до старости. У Еврипида живой и полный сил Геракл, причем выступающий здесь в качестве апологета принципа «ешь, пей и веселись, ибо после смерти наслаждений не бывает», спасает умершую Алкесту. В «Божественной комедии» давно умершая Беатриче с помощью Вергилия спасает от Ада живого Данте и указывает ему дорогу, идя по которой, можно помочь его читателям спастись от Ада.
В античном мире живые пытаются спасать от смерти умерших (Геракл – Алкесту, Орфей – Евридику, Дионис – Семелу). Им это изредка удается. В мире, где уже проповедано Евангелие, события развиваются по-другому: усопшие оказываются в силах прийти на помощь к живым и спасти их. Именно это происходит в жизни и в поэзии Данте Алигьери. Поэт после смерти Беатриче Портинари горько оплакивает ее, изо дня в день проливая слезы. Оказывается, что печаль эта до такой степени пронизала всё его существо, что в слезах излиться уже не может. Он пытается в стихах спасти (цитирую Горация!) от богини похорон Либитины хотя бы partem meliorem – то лучшее, что может остаться от Беатриче, но вдруг неожиданно понимает, что в этом нет никакой необходимости: это она, benedetta, блаженная, в силах спасти его, грешного, от гибели своею чистотою, которая вовсе не благодаря «звукам лиры и трубы», а действительно сама по себе неподвластна смерти. Так начинается «Божественная комедия».
В отличие от современников, для которых поэзия является «сладостным ремеслом» (как это было типично для Средних веков), Данте считает, что он именно как поэт может сделать для своего читателя что-то реальное. Эпикур, как говорили его последователи, избавил человечество от страха перед смертью, показав людям, что о ней можно просто не вспоминать, не думать. Гораций вслед за ним предложил читателям свое средство от смерти – он советует разбивать жизнь на короткие промежутки времени и затем жить, не пытаясь заглянуть вперед, в следующий промежуток.
Идя по их стопам, европейские мыслители начиная с XVIII века стали учить людей не бояться Ада. Это было действительно актуально, ибо всё Средневековье прошло под знаком дикого ужаса перед адскими муками. Однако писатели эпохи Просвещения, чтобы избавить человечество от Ада и вечных мучений, не нашли иного выхода, как сказать, что всё это выдумал Иисус, чтобы напугать Своих учеников. Данте в отличие от них знает, что Ад не только вполне реален, но и много более страшен, чем его образ, нарисованный в жизнеописаниях святых или в трудах средневековых богословов и «намалеванный», как потом скажет Гоголь, художниками. И тем не менее он хочет помочь своему читателю избавиться от него.
Но для этого нужна смелость, отвага и дерзновение. Все эти качества в то время, когда жил Данте, начинают уже утрачиваться. Петрарка, бывший всего лишь на сорок лет моложе автора «Божественной комедии», будет в течение всей жизни (и пока Лаура будет жива, и после ее смерти) просто упиваться своей меланхолией. Что же касается самого Данте, то иногда и он бывает готов стать на этом поприще предшественником своего младшего собрата.
На вратах дантова Ада, как известно, написано: Lasciate ogne speranza, то есть «Оставьте всякую надежду». Увидевшего эту надпись поэта охватывает ужас, но Вергилий сразу останавливает Данте, призывая его lasciare ogne sospetto – «оставить всякий страх». Призыв этот услышан: в «Божественной комедии» мы видим Данте уже другим, совсем не тем тоскующим юношей, каким он предстает перед нами на страницах «Новой жизни». Эта новая смелость поэта и есть залог его и нашей победы над Адом.
Только любовь может избавить человека от Ада. Именно с этого утверждения начинается поэма Данте. Беатриче как donna di virtù (светящаяся добродетелью дама) или, более того, святая, видя, что воспевший ее в своих канцонах поэт, блуждая по дорогам жизни, словно по пустыне, уже почти погиб, спускается с небес в преддверья Ада. Со словами amor mi mosse («меня привела любовь») она посылает к нему Вергилия, поэта, которого Данте считает своим учителем и autore (дословно: виновником своего «я»), чтобы тот провел его через Ад, пока он жив и, следовательно, может изменить себя. Беатриче больно оставаться в Раю, ибо она видит, что Данте погибает. Вергилий приходит к нему на помощь – благодаря автору «Энеиды» Данте начинает смотреть на себя другими глазами. В лица тех, чьи портреты, рассказывая о путешествии по Аду, Данте рисует в своих стихах, он и сам всматривается как в зеркало, и нас, своих читателей, зовет последовать его примеру. Он открывает, что грех страшен не нарушением запрета, но тем, что он уродует человека и искажает его природу.
Беатриче, праведница, спустившаяся из Рая, боится только того, что наносит вред ближнему. Для нее грех – это то, что может fare altrui male, «сделать другому плохо». В дальнейшем Данте раскрывает эту формулу, подчеркивая, что из всех грехов страшнейшими являются насилие и обман – o con forza o con frode altrui contrista. Страшны они именно тем, что плохо от них бывает не самому грешнику, а кому-то другому (altrui). В сущности, здесь дается полный ответ на вопрос, что такое грех.
Данте – не единственный живой в Аду. Парадоксально, но там поэт встречает не только покойников. Спустившись в девятый круг, он обнаруживает здесь брата Альбериго, монаха из Фаэнцы, заколовшего во время пира своего ничего не подозревавшего родственника, а также генуэзца по имени Бранка д’Орья, который так же предательски убил своего тестя; оба они еще живы, в чем Данте абсолютно уверен. «Он ест, и пьет, и спит, и носит платья», – восклицает поэт, тем самым утверждая, что не может поверить в то, что перед ним душа Бранко д’Орья. Тем не менее, это именно так. Оказывается, душа человеческая может попасть «в место сие мучения» не только после смерти, но и пока человек жив.
Читателю в этот момент становится ясно, что тот ужас, который человек испытывает перед Адом, не есть сублимированная форма биологического страха перед смертью. Тот metus mortis, от которого пытался избавить человечество Эпикур, страх, заживо пожиравший людей во времена Горация, о чем, в сущности, рассказывается в каждой его оде, и ужас, бывший, по мнению Августина, одной из основных составляющих в культуре поздней античности, скорее всего действительно обладают чисто биологической природой. Человек боится, что из мира исчезнет его «я», которое «ест, и пьет, и спит, и носит платья». От страха перед биологической смертью можно спрятаться, либо следуя тем советам, которые дает своим читателям Гораций, либо какими-то иными путями, но страх перед Адом настигнет нас всё равно.
Ад – не наказание, ибо «Бог милости, и щедрот, и человеколюбия»[63] никого не наказывает; но он и не просто место, где пребывают тени умерших, как это было у Гомера или Вергилия: у Данте здесь находятся и живые. Ад – это состояние, в которое проваливается человек, когда его «я» оказывается во власти греха. Можно не бояться смерти, можно не верить в посмертные муки, как не верили многие и во времена Данте, но всё равно Ад засосет тебя в свое жерло.
Ужас адских мук заключается прежде всего в том, что здесь царит ненависть. Тени ненавидят друг друга, но от этой ненависти они не горят, что соответствовало бы традиционному образу Ада, а замерзают. Несчастный граф Уголино – жертва. Его вместе с детьми заживо замуровал епископ Руджиери. Безумно жалко его детей. Чудовищна рассказанная им история. Здесь, в Аду, он оказался только по одной причине – из-за своей дикой, звериной ненависти к Руджиери, в череп которого он вгрызается теперь зубами, словно голодный в краюху хлеба, и уже не может остановиться. Палач и его жертва обречены мучить друг друга вечно, пока Уголино не излечится от своей ненависти.
Ненависть и злоба как ничто другое быстро и навсегда загоняют человека в тупик. Это действительно «мука вечная», то есть полная, – мука, от которой не спасешься ни при каких обстоятельствах.
В отличие от средневекового Ада, в котором грешники горят и страдают от неугасимого пламени, здесь идет дождь и царит страшный холод. Дождь, под который поэт попадает в Аду, кажется ему «вечным, проклятым, холодным и тяжелым». Находящихся здесь бьет град и засыпает снег, все они пребывают в грязной и холодной жиже. Повсюду вода, черные волны и, наконец, мрачные и зловонные болота, где «под волнами есть также люди; вздохи их, взлетев, пузырят воду», они задыхаются от влаги, горло их сдавливает тина, а тела засасывает смрадная топь.
Читая эти строки, невозможно не вспомнить 68-й псалом: «Спаси меня, Боже; ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего… Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне; да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод; да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего» (ст. 1–4, 15–16). Не только этот псалом, но и другие места Ветхого Завета сравнивают грешника с утопающим и говорят о том, что, умирая, человек как бы засасывается в воды тинистого болота.