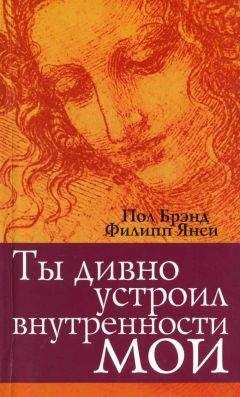если не активной ностальгии по временам рабовладельчества.
Эдди Мэй Коллинз, Синтия Уэсли, Кэрол Робертсон, Кэрол Дениз Макнэйр, Джонни Робинсон и Вирджил Уэйр – все мертвы, все – дети. Вот что ей пыталась втолковать Лоррейн. «Внезапно я осознала, – пишет она в мемуарах, – что значит быть черным в Америке 1963 года» [316]. Она спустилась в гараж в состоянии транса, вне себя от ярости. Ее муж застал ее за попытками собрать самодельный пистолет. «Нина, ты не знаешь, что значит проливать кровь, – сказал он. – Всё, что у тебя есть, – это музыка» [317]. Через час она вернулась к нему с партитурой «Mississippi Goddam». Спев ее, она почувствовала, будто выпустила «десять пуль» [318] в бирмингемских душегубов.
По мере вовлечения в активизм ее сценический образ стал меняться. Теперь она уже не была популярной эстрадной артисткой. Она стала борцом за свободу, а музыка – ее «политическим оружием» [319] в борьбе за объединение, поддержку и просвещение ее народа. Движение вдохновляло ее. Было так много надежд, так много тем для обсуждения. Правда ли ненасильственное сопротивление – лучшая стратегия? Нужен ли сепаратизм? Каким должно стать общество будущего? Сама она склонялась скорее к философии Black Power, воинственным учениям Стокли Кармайкла и Хьюи Ньютона, чем к всепрощающему христианству Байарда Растина и NAACP. При встрече с Мартином Лютером Кингом она выпалила: «Я не за мирный протест!» – прежде чем он даже успел поздороваться. («Твое право, сестра», – ответил он [320].)
Впервые с тех пор, как ее не приняли в Кёртисовский институт музыки, ее жизнь обрела смысл. В рядах активистов у нее появилось чувство собственного достоинства и цели, которых ей не хватало во взрослые годы. Песни о свободе, сказала она интервьюеру, «способны изменить мир… встряхнуть аудиторию, заставить ее увидеть, чему подвергается мой народ во всем мире» [321]. Один из организаторов протестов, Вернон Джордан, спросил у нее в 1964 году, почему она не делает больше для движения за гражданские права, на что она отрезала: «Твою мать, я и есть гражданские права» [322]. Песня – не ружье, как и картина – не протестный марш, но это не значит, что она не оказывает влияния на внешний мир. В интервью 1969 года на радио Симон сказала, что художникам не обязательно иметь политическую позицию, но их долг – отражать реальность, в которой мы живем. Созвучно идеям Райха она сравнила американское общество с раком, который нужно сначала обнаружить, прежде чем вылечить. «Но всё же я, милый мой, не доктор, и лечить не мне, – сказала она. – Я только могу пролить свет на болезнь, это моя работа» [323].
На протяжении многих лет она думала о том, на что способна музыка, и пыталась понять этот странный обмен, который случался, когда она садилась за рояль и открывала рот. Некоторые ее треки несли в себе чистый катарсис, например кавер на «Pirate Jenny» из «Трехгрошовой оперы» Брехта, которая звучала всюду в Берлине в тот год, когда туда приехал Райх. Симон вкладывает всё, что она знает о невидимости и тяжелом труде, в партию девушки-служанки Дженни, начитывая зловещую фразу «I’m counting their heads as I’m making the beds» («Я считаю их головы, застилая кровати») – прелюдию к кровавому пиршеству возмездия.
В тексте «Mississippi Goddam» тоже звучит мстительная нотка. Иногда она пела «we’re all going to die» («мы все умрем») в качестве протеста против осторожности администрации Линдона Джонсона, которая делала маленькие и постепенные шаги к изменениям законодательства, хотя жизни продолжали обрываться каждый день. Слишком медленно, – ревели Нина и ее музыканты в припеве. Бывало, она меняла местоимение, и из пророчества строчка превращалась в угрозу. «Oh but this whole country is full of lies, / You’re all going to die and die like flies» («Эта страна полнится ложью, / Вы все умрете, умрете, как мухи»), – спела она в Карнеги-холле 17 мая 1964 года перед зрителями, которые, судя по шуму, с каждым куплетом всё сильнее нервничали. После она сказала режиссеру-документалисту Питеру Родису: «Я хотела разнести их вдребезги. Я хотела ворваться в это логово холеных людей с их отсталыми идеями, их самодовольством и свести их с ума» [324]. В ответ на ее лейбл по почте посыпались коробки со сломанными пластинками, а саму песню запретили на радио в нескольких южных штатах.
Но фантазиями о возмездии не исчерпывался активизм Симон (да и угрозы со сцены существовали в ином слое реальности, нежели века реальных, всё еще происходящих зверств). Она, может, и была, как она сама говорила, женщиной в огне, но к старозаветному духу всегда примешивалось что-то нежное, жажда близости. Ребенком в Северной Каролине она часами играла на фортепиано на собраниях верующих, пока они делились божественными откровениями и говорили на «иных языках», «бегали туда и обратно… а проповедник подхватывал всю эту духовную энергию и выплескивал ее обратно на людей. Иногда женщины даже попадали в больницу – в такой сильный экстаз они впадали» [325]. Подобный опыт начал происходить с ней на концертах в 1960-х, таинственная энергия струилась между ней и слушателями, как будто каждое тело в толпе – это источник электричества, а она нащупала коллективный переключатель.
Секс, писала она в своем дневнике, был «источником энергии» [326] для ее выступлений: она превращала концертный зал в оргонный аккумулятор. Не знаю, читала ли она лекцию Лорки о дуэнде, но, когда она пыталась объяснить, что имеет в виду, лучшее сравнение, какое пришло ей на ум, было сравнение с корридой. Однажды она видела ее душным днем в Барселоне, и, когда бык наконец испустил дух, ее стошнило от ужаса. Истинное кровопускание, сказала она, и так же говорили в Трайоне, когда кто-то с пеной у рта впадал в исступление, полную невменяемость. Это было «то же чувство трансформации, торжества чего-то глубокого, очень глубокого. И это было по-настоящему, вот что я поняла про выступления на сцене: я обладала способностью вызывать у людей глубинные чувства… Уловив это состояние, завладев публикой, ты сразу это понимаешь, потому что воздух пропитывается электричеством… Я, как тореадор, гипнотизировала быка и могла развернуться и уйти, повернувшись спиной к этому огромному зверю… Как и в случае с тореадорами, люди приходили на мои концерты, потому что знали: я играю в опасную игру, и однажды я могу оступиться» [327].
Занятно, что нечто похожее говорила Сьюзен Сонтаг после первой схватки с раком: она сравнивала смерть с быком, черным быком, которого она пыталась обогнать. Разница в том, что Симон делала это не только ради себя. Я никогда не видела ее живьем, но иногда я чувствовала это электричество на других концертах. Канетти утверждал, что есть много типов толпы, и пару раз