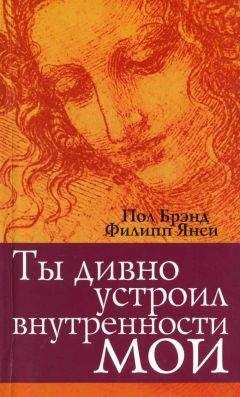я ощущала толпу как огромное животное. Этот опыт близок к сексуальному экстазу, к радости избавления от своего бренного, индивидуального тела и слияния с диким, бушующим коллективным. Для Симон этот обмен должен был быть взаимным, поэтому она кричала на зрителей, если они болтали или вставали во время ее выступлений. Ей требовалась их концентрация, их внимание как сырье, необходимое для ее метаморфоз, как топливо для долгого пути.
Куда лежал этот путь? Мне кажется, в шестидесятых она будила в аудитории самые болезненные чувства и вела их рискованной, катарсической дорогой сквозь ярость, скорбь, ужас, страдание, отчаяние и выводила обратно к радости, как и Вивиан Бонд в «Joe’s Pub» на Лафайет-стрит пятьдесят лет спустя. Дело не столько в текстах песен, сколько в том, как она воплощала свободу в своих гибких трансформациях, текучих, спонтанных сменах настроения, в том, как она вставляла слова от себя, резко останавливалась, делала ложные выпады, ускользала прочь, ранила в самое сердце. Райх нащупал такой подход к пациентам, который позволял прорваться сквозь их броню, историю травм, накопленных в каждом человеческом теле, и мне кажется, Симон делала то же самое – только через песню.
«Все люди наполовину мертвы, – сказала она в 1969 году в интервью, снова в духе философии Райха. – Все люди избегают друг друга. Во всем мире, почти в любой ситуации, почти всё время. Я это прекрасно знаю. Я тоже человек, и, по-моему, это страшно. Поэтому я постоянно пытаюсь помочь людям раскрыться, почувствовать себя собой и позволить себе открыться другому. Вот и всё. И всё» [328].
В наше время мы скептически относимся к искренности как политическому инструменту. Слишком избита эта беззаботная хипповая пошлость. Однако в своем трагическом рассказе 1972 года о движении за гражданские права, книге «No Name in the Street» («Безымянный на улице»), друг Нины Симон Джеймс Болдуин еще больше развивает идею эмоциональной близости. Среди читателей Райха он отличался неизменной проницательностью. Как и Фуко, он с сомнением отнесся к мысли, что оргазмы положат конец насилию, и всё же в своей исполненной отчаяния книге он вторил Райху и говорил, что ограничения и запреты в личной жизни имеют серьезные последствия для общества, и именно в них лежит первопричина расизма.
[ В Америке меня всегда поражала настолько бездонная эмоциональная нищета, настолько глубокий ужас перед человеческой жизнью, человеческим прикосновением, что буквально ни один американец не способен действенным и органичным способом примирить между собой свой общественный облик и личную жизнь. Это банкротство личной жизни всегда оказывало самое тлетворное воздействие на поведение американского общества и отношения между белыми и черными. Если бы американцы не так боялись своей истинной натуры, они никогда бы позволили себе эту одержимость так называемой «проблемой негров». Эта проблема, которую они придумали для сохранности собственной чистоты, превратила их в преступников и монстров, и она губит их [329]. ]
На тридцать второй день рождения Симон, 21 февраля 1963 года, Малкольма Икса убили во время лекции в театре Одюбон три члена сепаратистской организации «Нация ислама», из которой он вышел годом раньше, в частности потому, что хотел сотрудничать с другими группами движения за гражданские права. К своему бесконечному сожалению, Нина так и не познакомилась с ним, но знала его беременную жену Бетти Шабаз, которая в скором времени поселилась с ней по соседству в Маунт-Вернон вместе с шестью дочерьми. Две из них, близняшки Малика и Малаак, родились уже после убийства отца.
Через месяц после смерти Малкольма Симон отменила череду концертов в Нью-Йорке, суливших ей большие доходы, и полетела с группой в Алабаму, чтобы выступить на третьем марше от Сельмы до Монтгомери за избирательные права (на тот момент в Алабаме черные жители могли зарегистрироваться для голосования только два дня в году; каждая регистрация занимала час). Тем вечером Нина играла на сцене, сделанной из пустых гробов, пожертвованных местным моргом для черных. Она высилась над толпой в своей клетчатой юбке и, несмотря ни на что, выплескивала любовь и гнев на двадцать пять тысяч измученных людей со стертыми ногами, прижавшихся друг к другу под проливным дождем.
В те дни шли разговоры о революции: не если, а когда она будет. Как Райх после венского восстания, Нина не понимала, почему все не бунтуют и не борются. Она уже не верила, что можно мирным путем добиться свободы от людей, которые взрывали церкви, убивали активистов и открыто тосковали по рабовладельчеству. Если хочешь свободы, придется брать дело в свои руки. Ку-клукс-клан не гнушается насилия, говорила она, также как его не гнушается полиция.
Движение не только дало ей цель. Оно открыло для нее возможность вылить собственные личные переживания во что-то большее. Она смогла преобразовать свою депрессию, постоянное чувство уродства – следствия расизма – в гимны радости и гордости, такие как «Ain’t Got No / I Got Life» или «Young, Gifted and Black», написанную для Лоррейн. Однако постоянные гастроли давали о себе знать, и дурные чувства просачивались обратно. Многие ночи она не могла сомкнуть глаз, и тексты только что спетых песен бесконечно крутились у нее в голове. Конечно, прекрасно быть проводником энергии для тысяч людей, но что делать, когда они все расходятся по домам, а ты остаешься одна в гримерке и смотришь на свое призрачное лицо в огромном зеркале? Выручал алкоголь, или так ей казалось, а еще таблетки: «снотворное для сна + желтые таблетки для сцены» [330].
Секс как лекарство помогал лучше: только он, писала она, позволял ей стать теплым, открытым человеческим существом. В своем дневнике она признавалась во влечении к обоим полам и рассказывала о развале отношений с Энди. Он был холоден, загонял ее, как лошадь, заставлял вымаливать знаки расположения и иногда бил. Она поняла, что не может выносить эту унизительную жестокость, как и Дворкин в Амстердаме, которую начал избивать муж, через пару лет после этого. «Никто не знает, что я уже умерла, и только мой призрак еще держится» [331], – записала Нина в своем дневнике, не проставив дату. Реальность то проступала, то меркла. Во время тура с Биллом Косби в 1968 году Энди однажды застал ее в гримерке, когда она наносила коричневую пудру себе на волосы. У нее были галлюцинации, и, посмотрев на Энди, на мгновение она решила, что у него прозрачная кожа. Только через много лет ей поставили диагноз «биполярное расстройство» и назначили лечение, но в шестидесятых у нее была только работа – пускай мир и рассыпался вокруг нее, пока она пела.
Автобиографию Малкольма Икса опубликовали в ноябре 1965 года, через девять месяцев после его смерти. Симон очень прониклась ею, хотя часть про самообразование в