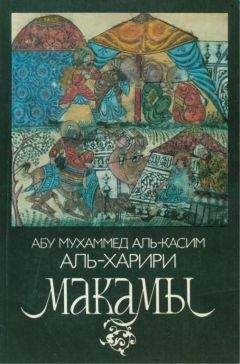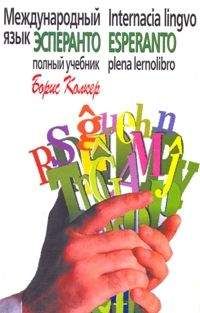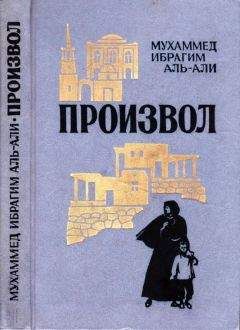Судья сказал старику:
— Ну что ж! Не оправдаешься — в тюрьму попадешь! Если жена не права, скажи. И свою правоту докажи!
Потупил было взор старик, да к смирению, видно, он не привык. Вот он засучил рукава и ринулся в бой, сказав такие слова:
Послушай рассказ удивительный мой —
И ты посмеешься, поплачешь со мной.
В натуре моей и черты нет плохой,
Зато добродетелей в ней — целый рой!
Мой род — гассаниды[66] — прославлен судьбой,
А славный Серудж — это край мой родной.
Богатство мое — не мешок золотой,
А звонкие рифмы, что льются рекой.
Я в бездну наук погружен с головой,
Такая работа — не хуже другой.
И, словно ныряльщик в пучине морской,
Ловлю я жемчужины в речи людской.
Я рву красноречия плод наливной
(Другие — лишь хворост ломают сухой).
И слов серебро под искусной рукой
Горит, словно солнечный луч золотой.
Когда-то талант сочинительский мой
Вознес меня так высоко над толпой:
Подарки текли изобильной струей,
Я дар отвергал, если он небольшой.
Сегодня талант уж не ценится мой:
На рынке поэзии полный застой,
А слава певца — это звук лишь пустой —
Никто не желает и знаться с тобой!
Теперь от поэта бездельник любой,
Как будто от падали смрадной, гнилой,
Лицо отвращает, идет стороной.
Смутился мой ум от напасти такой —
Окутала ночь меня тьмою густой.
Теперь во мне нет уже силы былой —
Тоска и заботы владеют душой,
И тело истерзано злой нищетой.
Печальный, бреду я постыдной стезей —
Ведь я обездолен неправой судьбой.
И все, до последней подстилки худой,
Я продал — и сплю, укрываясь полой.
Долги мою шею стянули петлей —
Не вырваться мне из петли роковой.
Измучил однажды нас голод лихой:
Пять дней — и ни крошки во рту ни одной!
Тогда подсказал мне желудок пустой:
«Приданое — где еще выход иной?»
Но сердце так мучилось горькой виной,
Глаза увлажнялись горючей слезой.
Я все продавал по согласью с женой,
Чтоб гнев не гремел над моей головой.
Она же — ты видишь — грозит мне войной,
Как будто поверила мысли пустой,
Что долг мой — нанизывать жемчуг простой.
Иль думает, что пред отцом и родней
Бахвалился слов я обманной игрой?
Аллахом клянусь я и Каабой святой,
Куда караваны стремятся чредой:
Обман мне противен, натуре прямой,
С женою лукавить — обычай не мой!
Перо неразлучно с моею рукой,
Я с детства не ведал работы иной.
Перо и бумага дружили со мной.
Не бисер низал я, не жемчуг морской —
Я рифмой вязал стих звенящий, тугой.
Я хлеб добывал не работой ручной,
А мыслью, ума преискусной игрой.
Правдиво я все изложил пред тобой —
Суди, как подскажет твой разум благой.
Старик, опустив лукавый взор, вывел в стихах последний узор. Тут судья обратился к его жене:
— Знай, твой супруг тронул сердце мне! В наши дни пресеклось племя честных и добрых, но плодится семья людей подлых и злобных. Твоего же супруга нельзя укорять: он, я считаю, лучшим под стать. Ведь честно сказал он, что задолжал, что не жемчуг, а слов череду он низал и что голод кости его глодал. Повинную голову меч не сечет, загнать в тюрьму бедняка не расчет. Скрывающий бедность — благочестив, терпеливый — у бога в чести. Ступай домой и вину прости владельцу твоей невинности. Не горячись, побольше молчи и воле Аллаха себя поручи.
Потом судья отделил часть добра и сказал, подавая им горсть серебра:
— Да будет сей дар для вас утешением, вашей засухи живительным орошением. Стойко терпите невзгоды судьбы — и Аллах одарит вас, может быть.
Встали супруги, простились с судьей. И сразу повеселел наш герой, как пленник, расставшийся с кандалами, иль нищий, нашедший кошель с деньгами.
Продолжил рассказчик:
— Я Абу Зейда тотчас же узнал, когда он пред очи судьи предстал, словно солнце сквозь тучи всем заблистал. И пока они препирались с женой, я был занят мыслью такой: «Рассказать ли судье о талантах старца? Да… но вполне ведь может статься, что кади, увидев лжи позолоту, к щедрости потеряет охоту». Я сомневался и потому промолчал. Но все, что услышал, записал — на скрижалях своей души. Так пишет ангел людские грехи. Но сказал я судье, когда Абу Зейд ушел:
— Вот если бы кто вслед за ним пошел… Мы узнали бы, что он сейчас замышляет и в какую оправу свой жемчуг вставляет.
Кади тотчас послал писца, тайных сведений опытного ловца. И вскоре вернулся писец, хохоча, как камень, летящий с горы, грохоча.
— Что с тобою? — спросил судья.
Он в ответ:
— Ну и чудо же видел я! И слова какие смешные слышал!
— А что?
— Да старик за порог только вышел, мигом бросился во всю прыть да как начал в ладоши бить! А потом пустился плясать и во все горло распевать:
Заведи в дому гиену —
Зла дождешься непременно!
Ох, сидеть бы мне в темнице —
Да помог судья почтенный!
Тут лицо у кади повеселело, вся важность с него слетела. Он залился таким раскатистым смехом, что судейский колпак ему на ухо съехал. Когда же степенность вернулась к кади, сказал он:
— Простите меня, бога ради! О Аллах, ты рабов своих хранишь, благочестивым близость сулишь, приблизь и учтивых к награде заветной: сделай для них тюрьму запретной!
Потом приказал:
— Вернуть старика сюда!
Писец побежал — но не нашел его и следа. Тогда молвил судья:
— Если б старик ко мне явился, за ним бы тюремный замо́к не закрылся. Я наградил бы его вдвойне — очень уж он полюбился мне!
Сказал аль-Харис ибн Хаммам:
— Когда я увидел, что к Абу Зейду судья расположен, что новый дар ему был бы возможен, я раскаялся, как Фараздак[67], Навары злосчастный друг, или Кусаий[68], со злости сломавший свой лук.
Перевод В. Борисова
Рахбийская макама
(десятая)
Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:
— Пристрастие к путешествиям повлекло меня за собой, и я оседлал верблюдицу, собираясь поспорить с судьбой, решимости меч не мешкая обнажил и в дорогу далекую поспешил. В Рахбе сирийской[69] я бросил свои якоря, за надежный приют Аллаха благодаря. И когда, отдохнув, я вышел из бани с чисто выбритой головой, я был остановлен пестрой и шумной толпой. Вижу — мальчик в толпе, красивый и стройный, как тополь, и какой-то старик за рукав его тянет, издавая громкие вопли: дескать, сына его этот мальчик убил! А мальчик клянется изо всех своих сил, что напрасны вовсе его обвинения и ужасны и злостны его подозрения.
Спор разгорался, искры летели, ни на чем сойтись они не хотели. Наконец решили: пусть рассудит их дело вали[70]. А за этим вали дурные склонности знали: в пристрастии к мальчикам подозревали. Спорщики бросились к дому вали быстрее, чем ас-Сулейк-скороход[71], и старик перед вали повторил свои жалобы, надеясь на удачный исход. Но локоны мальчика успели вали пленить, унести его ум и сердце его покорить, и вали велел ему говорить.
Мальчик сказал:
— Это черная ложь очернителя и злая хула хулителя! Я в убийстве сына его неповинен, об этом злодействе я и не слышал доныне!
Вали сказал старику:
— Двух свидетелей полномочных тебе представить придется, а иначе — пусть мальчик в своей невиновности поклянется[72].
Старик отвечал:
— Он напал на сына в стороне отдаленной, пролил кровь его в местности уединенной, и никто не попался ему на пути — так откуда ж свидетелей мне найти? Прикажи мне, о вали, подсказать ему клятвы слова, и ты разберешься, где правда, а где пустая молва!
И вали тотчас же согласился на просьбу бедного старика:
— Ты имеешь на это право, ибо скорбь твоя весьма велика.
Старик обратился к мальчику:
— Повторяй же за мной: клянусь тем, кто меня наделил красотой, тем, кто локоны мне на чело опустил, черноту зрачкам моим подарил, кто срастись приказал моим бровям и придал белизну моим зубам, тем, кто томными сделал веки мои, так что тени ресниц на лицо легли, кто налил мои ланиты огнем, оросил мои зубы ароматным вином, сделал сладостной музыкой голоса звуки, сделал стройным мой стан и нежными руки — ни по злому умыслу, ни случайно твоего я сына не убивал, меч мой ножны свои тугие на тело его не сменял!
Если лгу — пусть накажет меня Аллах, пусть рассыплет он сыпь на моих щеках, пусть глаза мои он наполнит гноем, пусть покроет он зубы мои желтизною, пусть он сделает локоны лысиной голой, розу щек моих свежих — увядшей и блеклой, серебро моей кожи — серой золой, свет улыбки моей — беспросветною тьмой, аромат моих уст — зловонием скверным и луну лица моего — ущербной!