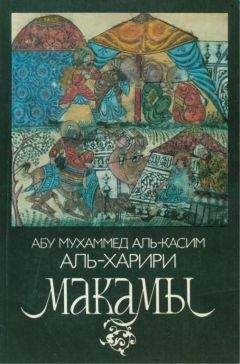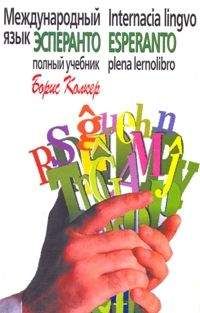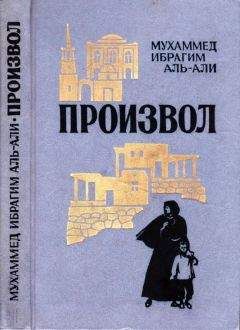Но так захотела звезда моя неудачливая и пожелала судьба незадачливая, чтоб однажды хмель мне язык развязал и соседу-сплетнику я о ней рассказал. Скоро я протрезвел, спохватился… Увы! Успела стрела соскользнуть с тетивы. И стал я ругать себя за то, что лил тайну в дырявое решето. Но потом я с соседом договорился, чтобы рассказ мой в секрете хранился, чтоб о нем никому он не говорил, даже если бы я его чем-нибудь прогневил. Сосед меня клятвенно заверял, что чужие тайны он всегда сохранял, как купец — свой товар, как скупец — динар, и что мне от него ничего не грозит: он пойдет в огонь, а о тайне смолчит. Но лишь день прошел или, может быть, два, как представился случай проверить его слова: правитель нашего города к эмиру решил направиться — захотелось ему эмиру понравиться; войском своим перед эмиром он пожелал похвалиться и заставить награды дождем пролиться. И подарок достойный эмиру он решил поднести, чтобы милость двойную обрести. Большие блага обещал он тому, кто найдет такой подарок ему.
И сосед мой не устоял — в предвкушенье подачек низко пал, прикрывшись одеждами порока, чтоб его не кололи стрелы упрека. Он в уши правителю нашептал то, что от меня по секрету узнал. И вот поток мне стал угрожать, готовый меня, непокорного, сиять: слуги правителя приходили и речь о том со мной заводили, что жемчужину надо другому отдать, а цену можно любую взять. Горе великое меня затопило, точно море, что фараоново войско залило[122]. С потоком пробовал я бороться, но пред мощью такой кому устоять удается?.. Просил я милости у правителя, но тщетными были мольбы просителя: когда я перед ним представал и просьбу свою изложить желал, как на преступника, на меня он смотрел и от гнева даже зубами скрипел. Но ведь и мне с этой полной луной расстаться все равно что без сердца остаться!..
В конце концов я был побежден — и страхом гибели побужден зеницу ока другому отдать и звоном монет себя утешать. А доносчик ни даника не получил, лишь презренье всеобщее заслужил. Я же Аллаху поклялся, что впредь не буду с доносчиками дела иметь. А стекло, посмотрите, как будто нарочно, обладает этим свойством порочным: недаром в пословицу вошло прозрачно-обманчивое стекло. Клятва, данная мною, навеки крепка: к стеклу не притронется моя рука!
Не упрекайте: я вам объяснил,
Из-за чего вас шербета лишил.
Я красноречием все возмещаю:
Старым и новым прорехи латаю —
Словом узорным, что взял я от предков,
Речью своей, благозвучной и меткой.
Умный поймет и не будет суровым:
Слаще халвы остроумное слово!
Продолжал аль-Харис ибн Хаммам:
— Абу Зейда мы оправдали, в щеку его поцеловали и так ему сказали:
— Лучшего из людей сплетница тоже терзала: корейшитам тайны его разглашала[123]…
Потом мы Абу Зейда спросили:
— А что делал твой коварный сосед, причинив тебе столько горя и бед, тот, что стрелу доноса посмел в тебя запустить — и дружбы вашей обрезал нить?
— Этот подлый стал унижаться, к влиятельным лицам за помощью обращаться — чрез них у меня прощенья просить, умоляя его простить. Но я запретил себе мягким быть: мне с этим низким вновь дружбы не вить — незачем в день вчерашний плыть. И мольбы его всякий раз встречали твердый мой отказ, который сплетника не удручал: наглец улыбкой отказ встречал и по-прежнему просьбы свои расточал. Но нашел я средство от приставаний, для усмиренья его желаний — стихи, печали моей выраженье и сердечной горести отраженье. Пусть они шайтана его укротят, домогательства сплетника от меня отдалят! Когда до соседа мой стих докатился, навеки он с радостью распростился: он ударил себя рукой сожаления и больше не ждал от меня прощения, как неверный в могиле не ждет воскрешения.
Мы пожелали услышать, как эти стихи звучат, чтобы вдохнуть их аромат. Абу Зейд сказал:
— Так и быть, прочту вам стихотворение — ведь сотканы люди из нетерпения…
И стал декламировать без тени смущения, без всякой робости или волнения:
Был сосед у меня, я с ним дружбу водил,
О любви он своей постоянно твердил.
Мнилось мне, что был другом он верным —
Оказался гниющею скверной.
И когда об измене его я узнал,
Ненавистную дружбу я тут же порвал:
Он нанес мне удар вероломно —
Наш разрыв стал, как пропасть, огромным.
Я считал, что опора он в жизни моей,
А он предал меня, как бездушный злодей;
Кто приятелем был мне желанным,
Обернулся врагом окаянным.
Я, отравленный ядом его, умирал,
Позабыв обо мне, безмятежно он спал.
Я считал его нежным насимом[124] —
Злым самумом[125] он стал нестерпимым.
Он остался здоровым, прямым, как стрела,
А меня лихорадка от горя сожгла.
Был не братом он, благости полным,
А врагом, беспощадным и злобным.
Я коварство его до конца испытал:
Лучше б в жизни его никогда не встречал!
Стал зарю я теперь ненавидеть:
Мне противно все ясное видеть.
Я теперь полюбил мрак суровый ночной —
Не откроет он тайны врагу ни одной!
Другу темень ночная подобна —
На измену она не способна.
Грех великий доносчик и сплетник творит,
Даже если он правду тебе говорит.
Продолжал аль-Харис ибн Хаммам:
— Когда хозяин выслушал и обличенье и восхваленье, от стихов и от саджа получив наслажденье, усадил он Абу Зейда на почетное место, где ему по чести сидеть уместно. Потом приказал расставить повсюду серебряную посуду, полную всякого рода сластей, для ублажения гостей. И сказал:
— Не равны обитатель рая и тот, кто в адском огне сгорает, не равны кто вины за собой не знает и тот, кто проступок совершает. Невинна серебряная посуда, ибо тайну хранить умеют эти сосуды. Ты их из застолья не изгоняй и к адитам Худа[126] не причисляй…
Тут слугам велел он поднять сосуды для обозрения, чтобы высказал гость свое одобрение. Абу Зейд сказал нам:
— Прочтем же суру «Победа»! Спасибо Аллаху, что позволил сластей отведать, залечил наши раны, отвел беду, сделал приятной нашу еду и полюбоваться дал серебром. Бывает, то, что считаешь злом, оборачивается добром…
Когда собрался Абу Зейд уходить, захотелось ему серебро как подарок с собой прихватить. Сказал он хозяину:
— Кто любезным слывет, тот, насытив гостей, и посуду им раздает…
Хозяин ответил:
— И посуду с собой забирай, речи кончай и с миром ступай.
Услышав ответ, Абу Зейд вскочил и хозяина радостно благодарил, как щедрую реку сад восхваляет, когда она дождем его поливает. Потом нас в палатку свою он призвал, вкусной едой угощал и сосуды дареные раздавал. Затем он сказал:
— Я не знаю после такого обеда, роптать мне на сплетника-соседа или его благодарить, помнить о зле или забыть. Хоть он и много вреда мне принес тем, что о тайне моей донес, но из черной тучи щедрый ливень пролился — донос в добычу мою превратился. Этим я удовлетворюсь, к львятам своим вернусь. И не буду утруждать ни себя, ни верблюда. Я покину вас, в сердце любовь тая. Да хранят вас Аллах и молитва моя!
Тут на верблюдицу он взгромоздился и в обратный путь устремился — к тем, кто давно по нему томился. Без него мы словно осиротели и долго вослед ему глядели. Но верблюдица крепкая ходу прибавила — и нас одних тосковать оставила. Ночь сразу стала темным-темна: за холм закатилась наша луна.
Перевод В. Борисова
Насибинская макама
(девятнадцатая)
Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:
— Был в Ираке засушливый год: ветер дует, а туч не несет. Но странники говорили, что в Насибине[127] житье привольное — земля плодородна, а люди жизнью довольны. И вот оседлал я верблюда махрийского[128], к седлу приторочил копье самхарийское[129]. То в гору, то вниз с горы крутой, земли сменялись одна за другой. И вот в Насибине я — всадник усталый на верблюжьем горбу исхудалом. Насибинскою жизнью я наслаждался, а верблюд мой сочной травою питался. И решил я остаться в этом краю, пока дождь не напоит землю мою.
Не успели глаза мои ополоснуться сном, не успела ночь разрешиться от бремени днем, гляжу: Абу Зейд по городу бродит, без цели как будто, а пользу находит — из уст он сыплет жемчужины слов и выдаивает щедрые струи даров. За труды мне судьба добычу послала, одинокой стреле двойника сыскала! И стал я как тень за ним ходить, на лету слова Абу Зейда ловить. Но вдруг на него лихорадка напала, на костях его мяса оставила мало, затянулась болезнь, унесла все силы и наше общение прекратила. Я не знал, куда от тоски мне деться, плакал я, как без матери плачет младенец. Тут слух прошел, что звезда его закатилась, когти гибели в тело его вцепились. Этот слух опечалил многих людей и привел к его дому добрых друзей: