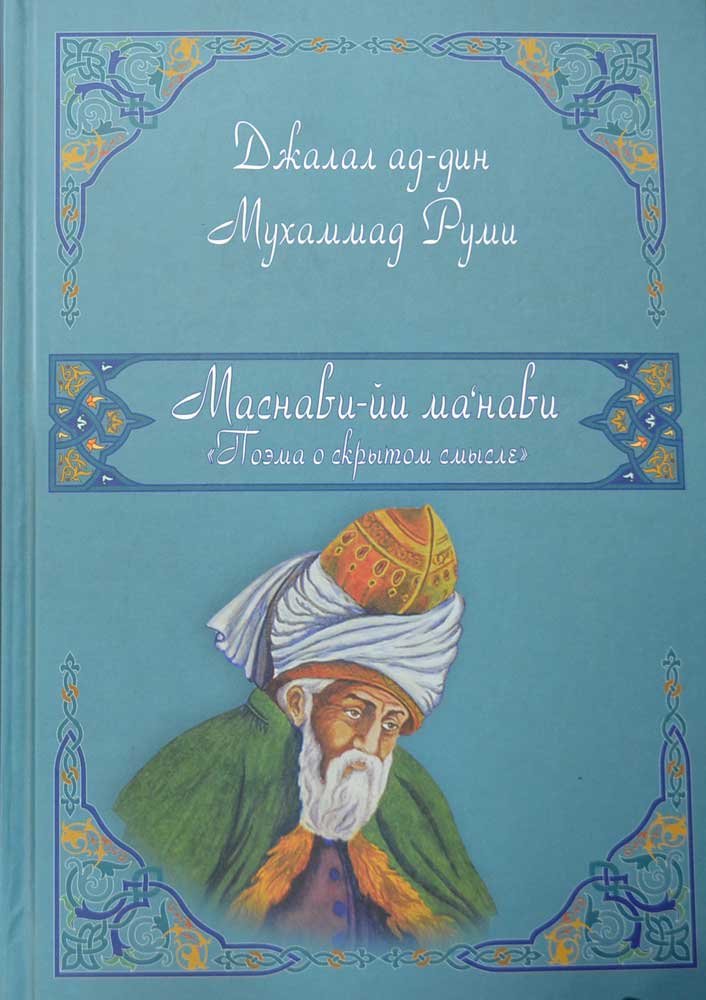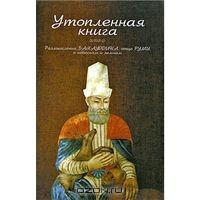Нас прочь оттуда, где мы прижились.
В глаза собаке глядя умиленно,
Маджнун то гладил шерсть ее влюбленно,
То обходил, как будто бы она —
Святой мазар, а сам он дивана.
Маджнун благословлял ее породу,
Давал ей сласти, розовую воду.
Сказал Мадж ну ну кто-то из прохожих:
«Что ты творишь, венец созданий божьих?
Ты морду целовать собаке рад,
Которою она свой чешет зад!»
И начал речью обличать горячей
Прохожий весь поганый род собачий.
Отметим к слову: тем, кто недалек,
Заметен только видимый порок.
Сказал Маджнун: «Когда, почтенный, сами
Сумели б мир моими зреть глазами.
То вы собаку с улицы Лейли
Увидеть по-другому бы могли.
Вы поняли б: у милого жилища
Мне пыль дороже, чем собаке — пища.
И я готов — любви ничтожный раб —
Пыль целовать из-под собачьих лап.
Не должно мудрецам являть поспешность,
Судить не свойства скрытые, а внешность».
Когда душа предмета вам важна,
Любая станет раем сторона.
Был хлеб бедняги скуден, жизнь горька
Но тер он губы коркой курдюка
И говорил соседям то и дело:
«Я салом сыт, оно мне надоело!»
Он губы вытирал как бы в намек
На истинность того, что он изрек.
Глядите, мол, что выставить могу
Свидетельством того, что я не лгу.
От этой лжи стонал его желудок:
«Наш обладатель потерял рассудок,
Ему, когда б не врал, как часто врет,
Поесть иной и дал бы доброхот.
Ему не говорить бы лживых слов,
Позвали б, может быть, его на плов.
Свое он не скрывал бы положенье,
Беде его нашлось бы исцеленье!»
Живущим тяжело не станет лучше
От хвастовства своим благополучием.
Гордец, не говори обманных слов,
Не мажь курдючной коркою усов.
И если даже впрямь нашел ты злато,
Не надо хвастать, что живешь богато!..
Корил желудок своего владельца,
Меж Тем случилось вот какое дельце:
Унес бродячий кот исподтишка
Припрятанную корку курдюка.
И юный сын хозяина в волненье
Бежал вослед, кричал на все селенье:
«Украл он корку курдюка, шельмец,
Которой мазал губы мой отец».
Гордец едва не умер от печали.
Его усы лосниться перестали.
И спал с лица, я присмирел он вдруг,
И хвастать перестал, что ест курдюк.
Потешились, соседи, и немало,
Но состраданье в их сердцах взыграло.
Соседа привечали и жалели
И приглашали, если пили-ели.
И там вкушал он, проявив усердье,
Не столько пищу, сколько милосердье.
И вопреки былой своей гордыне
Он стал рабом правдивости отныне...
Когда неправды нет в твоих словах,
Достоин ты блаженства в двух мирах.
Однажды некий молодой шакал
В бадью со свежей краскою попал.
И, выбравшись наружу, стал гордиться,
Кричать: «Я райская отныне птица!
Среди шакалов я такой один,
Да не шакал я вовсе, я павлин!»
И впрямь, на том, чья шкура пестрой стала,
Чудесно солнце жаркое играло.
И был он не в пример другим шакалам
И голубым, и розовым, и алым.
Шакалье племя очень удивилось:
«Ответь, собрат наш, что с тобой случилось?
Скажи, чем возгордился ты сейчас,
Что свысока теперь глядишь на нас?»
Выл друг шакала удивлен немало.
«Скажи,— спросил он, — что с тобою стало?
Ведь ты готов взобраться на мимбар
И поучать всех нас, кто юн и стар,
И с высоты своей гордыни ложной
Всех болтовней смущать пустопорожней.
Но что слова и пестрой шкуры цвет,
Когда в тебе святого пыла нет?
Раскрасить краской шкуру — слишком мало.
Чтобы господня святость свойством стала.
Какую бы ты шкуру ни надел,
Весь век купаться в скверне — твой удел!»
Но гордый пестротой своей шакал
Так отвечал тому, кто порицал:
«Взгляни на облик мой, на яркий цвет,
Таких божков и у шамана нет.
Еще недавно был я незаметным,
Как райский сад теперь я стал стоцветным.
Склонитесь пред венцом моих красот,
Я — гордость веры, божий я оплот.
Господня благодать — Аллаха милость
Так, как во мне, ни в ком не проявилась.
Хочу я, чтоб отныне всякий знал:
Я средь