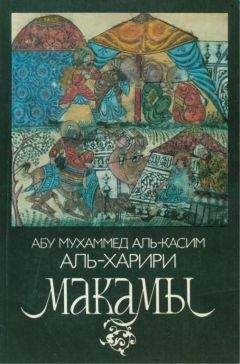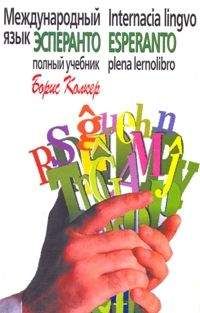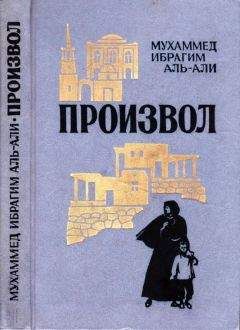Переводы макам аль-Харири на европейские языки появились лишь в XIX в. (С. де Саси, Рюккерта, Престона, Т. Ченери) и пользовались успехом у читателей. Например, Ф. Кугельман в воспоминаниях о К. Марксе пишет: «У Рюккерта он восторгался искусством языка, ему нравились также… „Макамы Харири“… по своей оригинальности они вряд ли могут быть сравнимы с чем-либо другим…»[5]
Гейне в «Иегуде бен Галеви» писал:
Ал-Харизи — я ручаюсь,
Он тебе знаком не больше,
А ведь он остряк — французский,
Он переострил Харири
В остроумнейших макамах…[6]
На русском языке в прошлом веке было опубликовано лишь пять макам аль-Харири[7], часть из них — в переводе с западных языков. Это — прозаические переводы, для них характерен тяжелый язык переводной прозы прошлого века; лишь в одном сделана попытка передать рифмы подлинника[8].
В переводе, предлагаемом читателю этой книги, мы стремились по возможности передать особенности поэтики макам[9]. Однако при этом нужно было иметь в виду, что привычное и естественное для средневековой арабской литературы может обернуться непривычной вычурностью и преувеличенной экзотичностью в русском варианте. Это создавало бы у читателя неверное представление о подлиннике, ведь, несмотря на все стилистические украшения, текст аль-Харири — не мертвая словесная ткань, а яркий живой рассказ.
Именно ради сохранения живого характера повествования и диалога переводчики считали необходимым расшифровать некоторые намеки, особенно связанные с бытовой спецификой, чтобы не перегружать перевод загадками и комментариями к ним. Например, в макаме О двух динарах Абу Зейд, жалуясь на невзгоды, которые терпит он и его семья, говорит: «И мы поселились в низине». Русский читатель (вероятно, и современный араб-горожанин) не поймет, почему именно это должно свидетельствовать о бедности. Комментатор поясняет: «Они выбрали низину местом жительства из-за бедности, чтоб гостям не был виден их огонь». В переводе мы передали этот отрывок так, чтобы он был понятен без комментариев: «На стоянке теперь я не жгу огней, боясь привлечь незваных гостей».
В то же время мы стремились сохранить характерные для арабского литературного стиля вообще и для аль-Харири в частности образные средства, которые отражают специфику языка макамы, хотя и могут показаться несколько необычными («беседы нашей огниво сыпало искры без перерыва», «ночь натянула шнуры своего шатра» и т. п.).
Хотели мы дать читателю представление и о звучании арабского текста, не ставя, однако, своей задачей воспроизвести все его звуковые украшения, потому что перевод, «озвученный» полностью по-арабски, опять-таки казался бы излишне вычурным.
В тех случаях, когда необходимо было передать в переводе такие элементы поэтической формы, которые в русском языке эквивалентов не имеют, приходилось подбирать для них аналоги. В частности, в макамах Мерагской и Алеппской излюбленные арабскими средневековыми авторами графические украшения заменялись украшениями эвфоническими, т. е., например, вместо повторения или чередования однотипных букв («отмеченных точками» или «не отмеченных точками» и т. п.) герои прибегают к повторению или чередованию одинаковых или однотипных звуков.
Делая таким образом русский текст более ясным по мысли и несколько более сдержанным по стилю, мы сочли необходимым сохранить ритмическую структуру подлинника и рифмовку, чтобы дать читателю представление о звучании арабского саджа.
Как известно, ритмизация не чужда русской литературной прозе. Большие куски ритмической прозы часто встречаются у таких общепризнанных мастеров стиля, как Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, И. А. Бунин. Основу ритмической организации русской прозы составляют грамматические и синтаксические параллели, поддержанные словесными и звуковыми повторами; иногда наблюдается стремление выравнять число слов, слогов или ударений в определенных ритмических отрезках, подобрать окончания определенного типа.
Поскольку ритмическая организация арабского саджа имеет в общем ту же основу (при большем удельном весе звуковых и словесных повторов, рифмы и параллелизма синтаксических конструкций); переводчики считали возможным воспроизвести его русской ритмической прозой. Наш перевод не копирует ритм подлинника; в нем, как правило, ритмически члененные отрезки длиннее, чем в подлиннике, главным образом из-за необходимости расшифровки текста, о чем было сказано выше, и частого отсутствия полных лексических соответствий.
Конструируя ритм саджа, мы сочли обязательным сохранить и рифму, которая часто играет роль и ритмообразующего фактора. При этом мы опирались на опыт таких известных мастеров перевода с европейских языков, как М. Л. Лозинский («Кола Брюньон») и Н. М. Любимов («Тиль Уленшпигель»). Учитывая характер лексики и фразеологии макам, мы использовали средства только литературного языка на равных стилевых уровнях, избегая просторечия и вульгаризмов. В таком случае, как нам кажется, рифма наряду с ритмом подчеркивает усложненность стиля, как бы компенсируя облегченность звуковой стороны текста, и придает ему оттенок некоторой «старинности» при сохранении чуть лукавого оттенка повествования.
Следует сказать также и о способах передачи арабских стихов, которые в подлиннике то и дело разрывают ткань рифмованной прозы.
Система стихосложения арабской классической поэзии метрическая; стопы традиционных стихотворных размеров достаточно строго определены количеством долгих и кратких слогов, а тоническое ударение, важное для рифмованной прозы, здесь не играет роли.
Переводчики не считали нужным пытаться имитировать ритмы подлинника и, заменяя долготы тоническими ударениями, создавать несвойственные русскому стиху размеры, хотя в принципе возможен и такой путь (см., например, сказки «Тысячи и одной ночи» в переводе М. А. Салье). Мы опирались на принятый в советской теории и практике поэтического перевода принцип функционального и ритмико-интонационного подобия подлиннику.
Нам представляется, что для передачи стихотворных вставок, вкрапленных в ритмическую рифмованную прозу, лучше всего пользоваться строгими русскими силлабо-тоническими размерами, для того чтобы в переводе грань между прозой и стихами ощущалась так же ясно, как у аль-Харири. В большинстве стихотворений сохранен принцип рифмовки, характерный для арабской классической поэзии, — единая рифма в каждой строке или через строку. В макамах Савской и Дамасской сохранен встречающийся в них особый вид арабской строфы андалусского происхождения (так называемый зеджель) с рифмовкой типа ббба, ввва, ггга и т. д.
Из пятидесяти макам, составляющих цикл рассказов о похождениях Абу Зейда ас-Серуджи, мы предлагаем читателю сорок, опуская макамы, основанные на графических фокусах или содержащие рассуждения о тонкостях арабской грамматики или законоведения, представляющие интерес только для специалиста. Нумерация макам оставлена такой же, как в арабском подлиннике.
Макамы аль-Харири неоднократно иллюстрировались средневековыми арабскими художниками-миниатюристами, несомненно находившими в них для себя богатый материал. Несколько иллюстрированных рукописей макам сохранилось до нашего времени. Рукопись, датированная XIII в. и содержащая 98 цветных миниатюр, находится в Ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР. Ее иллюстрации относятся к наиболее ранним из дошедших до нас арабских миниатюр. Репродукции двух из них воспроизводятся на первой (илл. к Мекканской макаме) и четвертой (илл. к Васитской макаме) сторонках обложки.
Предлагаемый читателю перевод макам выполнен по бейрутскому изданию 1968 г. («Шарх макамат аль-Харири», изд. «Дар ат-тирас») с использованием комментариев к изданию Сильвестра де Саси (Париж, 1822)[10].
В. М. Борисов
А. А. Долинина
Санаанская макама
(первая)
Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:
— Превратности времени обратили меня в бедняка, от друзей оторвала суровой судьбы рука, а верблюдица странствий унесла меня в дальние страны, так достиг я столицы Йеменской — Саны[11]: с пустой сумой, с нуждой за спиной — нету ни даника[12] хлеба купить и некуда голову приклонить. Целый день, неприкаянный, по улицам я бродил, словно по небу птица, по городу я кружил, а взоры свои пустил я блуждать повсюду: искали они, с кем я горе свое забуду, благородного друга, чтобы душу ему излить, о бедах поведать и печали свои утолить.
Долго-долго бродил я, и милость явил мне Аллах — всех несчастных заступник, помощник во всех делах. Привел он меня к многочисленному собранью: все теснили друг друга, и слышались чьи-то рыданья. Сквозь чащу собравшихся я стал пробираться вперед — разузнать и разведать, почему столпился народ. Наконец я увидел: в середине толпы стоит путешественник, жалкий и тощий на вид. Он рыдает и стонет, причитая и поучая, драгоценные камни слов то и дело из уст роняя. А вокруг него люди стоят, вниманья полны, как седой ореол вокруг полной и яркой луны, как цветка лепестки, что вокруг сердцевины видны. Подошел я с почтеньем поближе и был готов у него позаимствовать кое-что из редкостных слов. Он цветистые фразы быстро сплетать умел, ловко рифмы нанизывал, и голос его звенел: