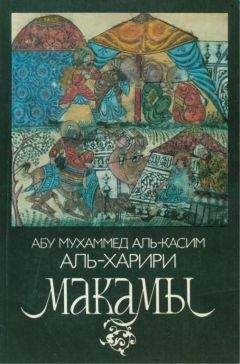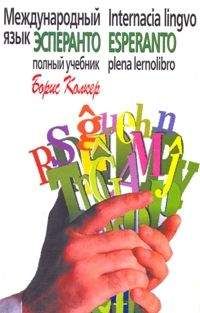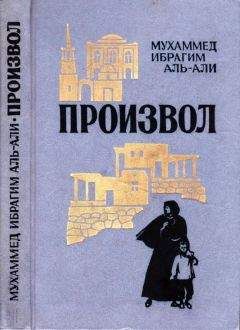— О ты, погрязший в своих заблуждениях, ты, увязший в земных наслаждениях, в одеяние гордости облаченный, неразумною суетой увлеченный! Ты в распутстве закусываешь удила, творишь ты неправедные дела! Ты от спеси спасаться доколе не будешь, в беззаботных забавах доколе пребудешь? Что ж ты грозным приказам владыки не внемлешь, на него греховную руку подъемлешь, скверность свою вотще скрывая от властителя ада и рая? Утаишь ты от ближнего злобный план, но Всевышнему ведом твой низкий обман!
Ты возьмешь ли богатство и титул с собой, собираясь мир покинуть земной? И разве укроют дворцы и палаты, когда приблизится час расплаты? Будет поздно, уж каяться не придется, когда твоя нога поскользнется, и не тронет друзей твоя мольба в страшный час, когда всем протрубит труба![13]
О, если бы путь ты избрал прямой, о, если б недуг излечил лихой! И душу взнуздал бы, добро возлюбя: ведь душа твоя — злейший враг для тебя![14] День кончины придет к тебе неизбежно — кинь пучину порока, готовься прилежно! Седина — тебе грозное предупрежденье. Где отыщешь потом для себя прощенье? Ведь могилой ты кончишь, к Аллаху придешь — так от кого же ты помощи ждешь? Не спи, коль судьба тебя разбудила, не медли, коль проповедь поторопила! На истину глаз ты не закрывай, от правды заведомой не убегай!
Смерть не дремлет, а ты о ней забываешь, никогда состраданья к людям не знаешь. Ты деньги готов день и ночь копить, а не имя Аллаха в душе хранить. Для себя ты возводишь роскошные зданья, а не ближним оказываешь благодеянья. Верного ты не ищешь пути — лишь одни наслаждения жаждешь найти. В ослепленье стремишься к роскошным нарядам, а не к добрым делам, не к райским наградам. Не молитва святая тебе дорога, а яркие яхонты и жемчуга. Ты скупишься на милостыню беднякам, а дары прилипают к твоим рукам. И тонкие яства, и хмельные напитки дороже тебе, чем священные свитки, и речи пустые без божьего страха милее тебе, чем слово Аллаха.
Вслух ты творить добро призываешь, а втайне святыни добра попираешь. Ты других отвращаешь от зла неустанно, а сам причиняешь зло постоянно. Ты против жестокости восстаешь, но об руку с ней все время идешь. И напрасно боишься людской неприязни — ведь Аллах лишь один достоин боязни!
Затем он продекламировал:
Горе тому, кто стремится
Сладостью жизни упиться,
В вихре страстей нечестивых
Денно и нощно кружиться!
Если б он знал, что в грядущем
Божье возмездье свершится,
Стал бы, отринувши страсти,
Плоть изнурять и молиться!
Тут оратор замолк и слов огни погасил, глубоко вздохнул, избыток слюны проглотил, подобрал свою палку и на плечи мешок взвалил. Увидели люди, что странник готов уйти, и каждый желал помочь ему в трудном пути: карманы опустошили — всяк выложил все что мог — и дарами своими наполнили тощий мешок. Страннику говорили:
— Хочешь — потрать это сам, поправь свое положенье, а хочешь — раздай друзьям.
Он принял от них подарки, стыдливо глаза прикрыв, и начал с ними прощаться, за щедрость их восхвалив, потом поспешил удалиться, себя не велел провожать, словно таясь и скрывая, куда будет путь держать.
Сказал аль-Харис ибн Хаммам:
— Я тайком отправился вслед за ним, осторожно ступая, неслышен, незрим. И смотрю — перед нами пещера большая. Он спустился туда, преследованья не замечая, снял сандалии, ноги омыл у входа и вглубь проскользнул, под темные своды. Тогда и я вошел в пещеру за ним, любопытством и жаждой знанья гоним. Вижу: странник сидит с учениками, белый хлеб перед ними большими кусками, с наслажденьем жаркое они уплетают, из кувшина огромного вином запивают. Я в удивленье воскликнул: «Смотри! Хороша оболочка, а что внутри!»
Тут котел его злобы сразу вскипел, он как дикий зверь на меня поглядел, и в глазах загорелись два недобрых огня — я боялся: он бросится на меня. Но скоро он охладил свой пыл и вновь стихами заговорил:
Для того я одежду аскета надел,
Чтобы сытно поесть, отдохнувши от дел.
Я расставил силки — и добычу поймал,
Я закинул крючок — и рыбешку поддел.
Я по свету брожу, пропитанье ловлю
Сотней хитрых уловок — таков мой удел.
Я без страха бросаюсь навстречу судьбе,
Даже в логове львином и то уцелел!
Но куда бы моя ни стремилась душа,
Честь всегда ей суровый поставит предел.
Почему же неправая злая судьба
Лишь порочным отводит обширный надел?
Потом он промолвил:
— Ешь, не тужи! А что-нибудь хочешь сказать — скажи!
Я шепнул одному из учеников, что делили с учителем славный улов:
— Я тебя заклинаю Каабой[15] святой — объясни мне скорее, кто он такой.
Тот сказал:
— Абу Зейд из Серуджа[16] родом, остроумец, признанный всем народом, Чужестранцев светоч, Чудо природы! Я ушел, увиденным удивленный, до глубины души потрясенный.
Перевод А. Долининой
Хульванская макама
(вторая)
Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:
— К собраньям ученых тянуться я стал, как только мальчишкою быть перестал, как только с меня амулеты сняли и, как взрослому шейху, чалму повязали. Я жаждал, дабы не пропасть, к кладезю мудрости припасть. Я жадно впитывал влагу познанья, чтоб у людей добиться признанья. Распахнулись в мир ненасытные вежды — хотел я носить мудрецов одежды. В изученье наук я старался быть точным — не обходил даже малый источник.
Однажды в Хульване[17] я очутился. И тут у друзей я добру поучился: узнавал, что украшает и что порочит, что губит, что добрую славу пророчит. Вдруг Абу Зейда я встретил в Хульване — того, с кем знакомство свел в городе Сане[18]. И здесь добывал он себе хлеб насущный острым умом, ему присущим: он то возводил свой род к Сасанидам[19], то утверждал, что сродни Гассанидам[20], то выступал как нищий поэт, удивляя искусством мир, то смотрел гордецом, как величественный эмир. Пребывал Абу Зейд в положениях всевозможных, не раз побывал в обстоятельствах сложных. Он людей оплетал тонкою ложью — таков был закон его непреложный. Их души он потоками слов орошал, а потом плоды красноречия своего вкушал. Речами учтивыми Абу Зейд людей ублажал, их страсть к познанию утолял.
Посему все стремились его лицезреть, чтоб в доселе неведомое прозреть. И никто не пытался ему возражать: ведь мощный поток его слов не сдержать! Что хотел, Абу Зейд получал, ибо сладостно голос его звучал. Была его речь изящной, вкусной — и я влюбился в его искусство. Даром своим он меня покорил — я искренним чувством его отдарил.
Подружился я с ним — и ушли все тревоги,
Далеко пред собой стал я видеть дороги.
Встречи с ним, как с любимой, отныне я жажду,
Словно брата, с утра его жду на пороге.
Его речь — это дождь, утоляющий жажду,
Без него я страдаю, как нищий убогий.
Так в приятном общении дни летели, я много узнал за эти недели. Погасил он в душе моей сомнения, не возбуждая в ней самомнения. Но скоро нужда в сладкий кубок общенья струею влила колоквинт разлученья[21]: Абу Зейда подвергла она испытанью, лишив его разом всех средств пропитанья. Тогда, наточив решимости меч, он задумал свои неудачи пресечь — пуститься от моря в степные места: авось сума его там не будет пуста. Так взял Абу Зейд за узду коня — с собой он увез и частицу меня.
Кого я с тех пор на пути ни встречал,
Кого бы ни слушал — со всеми скучал:
Средь них не видал я подобных ему
По речи блистательной и по уму.
Проходит год, проходят два, а я не знаю, где логово льва. Я много ездил, потом возвратился в город родной, где на свет появился. И стал посещать я хранилище книг — убежище тех, кто к слову приник. Заходили туда мои соплеменники, и дальних дорог забредали пленники. Однажды пришел туда старец седой, с бородою густой, в ветхой одежде, с сумою пустой. Сказал он всем приветствия слово, в сторонку сел — и нет его словно. Но вдруг развязал он меха острословия — и полились из них слова и присловия, всех, кто сидел вокруг, изумляя и восхищение их вызывая.
Потом старик соседа спросил:
— В какую книгу ты взоры свой углубил?
— Это — диван[22] Абу Убады[23], — ответил ему сосед. — В нем высот совершенства достиг поэт.
— Какие же бейты[24] тебя восхитили?
— Вот они — строки, что сердце пленили:
Лепестки белых роз или влажно сверкающий град?
Нет! Улыбка ее: дивных перлов сияющий ряд!
Какое яркое сравнение! Слова, достойные восхищения!
Старик воскликнул:
— До предела поэзия оскудела! Ты ведь опухоль за жир принимаешь и холодные уголья раздуваешь. Вот я прочту стихи, и ты скажешь «Ах!», услышав в них все о красивых зубах.