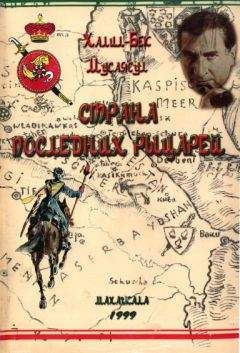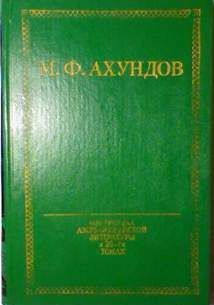Однако это не могло продолжаться долго, и я заказал, наконец, носильщика с базара, купил у него его одежду и дал одеть Казибекову. Затем, наклеив ему рыжую бороду и загримировав, я благословил его в дорогу. Он сначала спокойно шел по главной, очень людной улице, потом вышел за пределы города и так продолжил свой путь до Дербента. После этого я почувствовал облегчение и свободу, и у меня сразу поднялось настроение. Но никто не может избежать своей судьбы. Вот и Казибекова, в конце концов, все же расстреляли.
Лишь много лет спустя в Самсуне {77} я решился рассказать брату Мохама об этом случае, и он осудил мое легкомыслие, которое могло навлечь на меня беду. И я не мог тут не сослаться на наши древние обычаи, которые так гордо и достойно продолжают жить и в наше новое, смутное время.
Теперь, казалось, наступили более спокойные дни. У наших националистов-патриотов были достойные начальники в лице имама Нажмудина и Узун-хаджи {78}. Разумеется, за Петровск шли еще бои с большими потерями, разбойничьи банды рыскали в окрестностях Темир-Хан-Шуры и ежедневно совершали набеги.
Постепенно слабела надежда на победу национального правительства. Происходило это, в основном, из-за активного наступления армии Деникина. Этот генерал рассчитывал подавить стремление горцев к независимости, ставшей теперь естественной необходимостью для всех кавказских народов. Из-за своей недальновидности он все еще пытался, борясь за химерическую Россию, отвоевывать для нее Кавказ. Но он был разбит и вынужден бежать в Крым. Однако в боях с его армией дагестанские национал-патриоты тоже понесли большие потери, и поэтому большевикам с их огромной массой народа ничего не стоило расправиться с их малочисленным войском. Со всех сторон они наступали на обессиленные национальные отряды, одновременно и в городах их сторонники начали поднимать голову. Вот так рухнуло все, что мы хотели создать. Старая вековая мечта о независимости наших гор была снова разбита. Остатки национальных отрядов вернулись в горы.
В Петровске арестовали Алтая.
* * *
Медленно прошли два года, в течение которых воздух вокруг, казалось, становился все более гнетущим и ядовитым. Даже просто дышать им было все более тягостно, унизительно и недостойно. Поэтому, когда Советы приказали мне в 1920 году оформить поезд-люкс, предназначенный для Ленина, картинами побежденного Кавказа {79}, я согласился для видимости, но при первой же возможности решил уехать в Германию. А после того, как нашего родственника, как и многих других, под ложным предлогом вызвали в Темир-Хан-Шуру, подло расстреляли, а его голое тело бросили в лесу, чаша моего терпения лопнула. И я, под предлогом, что мне надо купить новые краски, поехал в Баку.
В огромном трудовом городе нефтяников, где только что было свергнуто национальное правительство, коммунизм был в полном разгаре. Я снял квартиру у одной старой приятельницы нашей семьи и приступил к тягостной работе: с утра до позднего вечера бегать по учреждениям, чтобы получить загранпаспорт, который мне был нужен для поездки в Тифлис, так как у меня с собой не было никаких документов. Для этого мне нужно было попасть в народный комиссариат и к военному министру, и я подружился с секретаршей президента и нарисовал ее портрет. Таким образом мне удалось собрать три рекомендательных письма; но за несколько месяцев ни один из чиновников даже не удосужился прочитать мои письма. Наконец, сам военный комиссар, знавший меня еще с оптимистических времен журнала «Танг чолпан», обратился в ЧК и попросил выдать мне разрешение для срочной поездки в Тифлис. Почти уверенный в том, что получу необходимую бумагу, я явился в здание ЧК. После нескольких часов бессмысленного ожидания меня впустили. Но в каком состоянии я возвращался оттуда? В кабинете председателя я не услышал ничего, кроме суровых слов в свой адрес, прозвучавших как явная угроза. Он обещал пристрелить офицерского выродка, то есть меня, если я еще раз покажусь ему на глаза.
С этого дня, потеряв всякую надежду, я бесцельно бродил в дымной черной сутолоке безжалостного города, ужасно обеспокоенный письмами, в которых мне сообщали об арестах и намекали, чтобы я как можно быстрее покинул Баку.
Как-то раз я снова стоял на прекрасной набережной и смотрел на Каспийское море. Мимо проезжали машины. И вдруг из окна одной из них я услышал свое имя. Но так как в этом городе у меня не было друзей, я подумал, что это ловушка, и не ответил. Меня опять окликнули, и я, поняв, что голос женский, подошел к автомобилю. Из него, действительно, вышла женщина, в которой я узнал ту самую медсестру, которая ухаживала за Ниной и которая в то время была влюблена в Мохама. Ее нынешний наряд сильно отличался от ее скромного халата медицинской сестры. Она стояла передо мной в кожанке с револьвером на поясе, в фуражке с красной звездой. Высокая, сильная и грубая женщина, превратившаяся в фанатичную большевичку. Она была послана Лениным в Баку в качестве политического комиссара для выполнения специальных заданий. Видно, она все же обрадовалась встрече со мной и пригласила меня пообедать в поезде, в котором она приехала из Москвы и продолжала жить в Баку. Она действительно повезла меня к поезду, принадлежавшему прежде великому князю. Старомодно-вычурная, в прошлом роскошная, но уже обветшавшая обстановка предстала моим глазам. Почтенный портье старого образца с печальной бородой и грязным поношенным мундиром ходил вокруг нас, как призрак.
Во время обеда она спросила меня, не белогвардеец ли я. Если да, то расстрел мне был бы обеспечен.— Нет, я не белогвардеец. «А что бы ты могла сделать с моим братом, полковником, если бы он сейчас оказался в твоих руках?» — спросил я, улыбаясь. «Приказала бы убить, конечно,— ответила она, тоже улыбаясь.— Я прошу вас, товарищ Андал, не делать глупого лица. Я вот этой своей рукой уже стольких людей убила. В этом нет ничего особенного. Только в самом начале немного неприятно». А ведь эту женщину я видел в последний раз у постели умирающей Нины, за которой она все девять дней самоотверженно ухаживала.
Все равно, будь она даже хищным зверем, я постараюсь ее использовать. Я доверяю ей в очень осторожной форме свои проблемы, и она тут же предлагает мне свою помощь в получении азербайджанского паспорта.
На следующий день она поехала со мной в своем автомобиле к зданию ЧК, которое я несколько дней назад покинул с уверенностью, что никогда больше сюда не войду. Она постучала в какую-то дверь с задней стороны здания; открылась щель, из которой высунулся штык, а за ним фуражка с красной звездой на лысом черепе. «Кто здесь?» Моя спутница предъявила свои документы, и ворота открылись. Меня тоже пропустили, не обратив внимания ни на револьвер, ни на кинжал. Мы вошли в пустое помещение, где, кроме двух стульев и двух стоящих в углу ружей, ничего не было. Она исчезла, надолго оставив меня одного. Некоторое время я терпеливо ждал, а затем во мне медленно и неудержимо стало расти подозрение, что моя мнимая защитница выдала меня, и что меня отсюда поведут в сырой, отвратительный подвал, чтобы там расстрелять. Именно так они поступили с моим братом, значит, так поступят и со мной. Время шло мучительно долго. Затем открылась дверь, и появилась моя странная знакомая — полуангел добра, полуангел смерти. Она объявила мне, что все в порядке. У меня в руках был законный азербайджанский паспорт! Путь на Тифлис был свободен, и оттуда можно было двигаться дальше. Я выразил свою благодарность живо и искренне, несмотря на своеобразный характер моей покровительницы.
Уже в тот же вечер я ехал в сторону границы в обществе азербайджанца, который должен был доставить нескольким студентам, живущим за границей, ковры и другое имущество. Так как мой спутник плохо говорил по-русски, я выдавал себя за его переводчика. Чем ближе мы подъезжали к пограничной станции, тем больше росло во мне новое опасение, так как ехавшие с нами люди рассказывали о том, что там через каждые два дня появляется председатель Бакинского ЧК и проверяет паспорта и пассажиров. Если мне не повезет и он приедет сегодня, то мне конец. Несмотря на наличие паспорта, он прикажет меня расстрелять. Мне это было обещано в достаточно ясной форме.
Поезд резко остановился. Мы уже прибыли на границу. Здесь стоял деревянный домик, предлагавший себя в качестве «отеля», а на запасном пути стоял вагон, который служил местом пребывания и обитания пограничников и таможенников. Дальше виден был мост через Куру, который и являлся действительной границей, а на другой стороне находилась грузинская железнодорожная станция. Чего бы я только не дал, чтобы уже оказаться на той стороне!
Пассажиры начали выходить из поезда, и когда большинство из них двинулось к гостинице, у меня разом отлегло от сердца, а напряжение переросло в отчаянную смелость. К большому удивлению моего приятеля, я повелительно крикнул нескольким солдатам, чтобы они взяли наши ценные вещи. Это произвело должное впечатление. Тут же услужливо подбежали двое ребят, схватили наш багаж и понесли его, приняв нас за официальных лиц, к поезду, а не в отель. И нам ничего другого не оставалось, как последовать за ними. Исключительно из уважения наш багаж не стали даже досматривать.