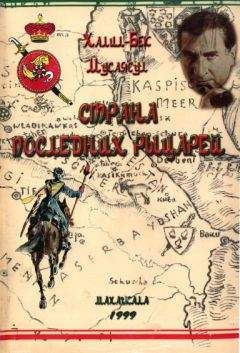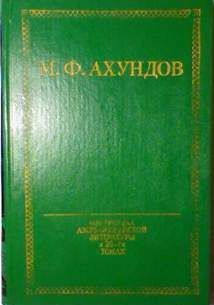Пассажиры начали выходить из поезда, и когда большинство из них двинулось к гостинице, у меня разом отлегло от сердца, а напряжение переросло в отчаянную смелость. К большому удивлению моего приятеля, я повелительно крикнул нескольким солдатам, чтобы они взяли наши ценные вещи. Это произвело должное впечатление. Тут же услужливо подбежали двое ребят, схватили наш багаж и понесли его, приняв нас за официальных лиц, к поезду, а не в отель. И нам ничего другого не оставалось, как последовать за ними. Исключительно из уважения наш багаж не стали даже досматривать.
Добрым знаком было и то, что солдаты пригласили нас пообедать с ними. Они пожарили шашлык, и я поставил к нему две бутылки водки. Это было рискованно с моей стороны, так как провоз алкоголя был запрещен. Но мой поступок был воспринят благосклонно, и вскоре мы с четырьмя солдатами и комиссаром таможни изрядно выпили. Атмосфера стала легкой и доверительной.
Тут в вагон вошла девушка и резко захлопнула за собой дверь. Она была очень молода, свежа и хороша собой. «Товарищ Маруся!» — представилась красавица в короткой кожаной юбке, помятой блузке, с красным платочком на шее и пистолетом на поясе. Смуглая брюнетка с жирными волосами и крупным смеющимся ртом очень располагала к себе. Ровный ряд белых и крепких зубов придавал ей сходство с молодой и здоровой собакой. А какие глаза! Она садится, ест и пьет. У нее хороший аппетит. Клянусь Аллахом, она всем хороша! Мы продолжаем пить, потом начинаем петь, братаемся и снова пьем. Я вхожу в азарт и могу сегодня вечером красиво говорить. Мой попутчик удивляется, и, как мне кажется, этой ночью будет еще не раз удивлен. Хмель, ощущение висевшей в воздухе, но уже преодоленной опасности, сознание своего леденящего одиночества среди всех этих «товарищей» вызывает во мне потребность в нежности и человеческом прикосновении. Маруся, конечно же, не совсем опрятная, сидит со мною рядом, а ее руки, давно уже играющие с моими, неухожены, но красивы и приятны. (Впрочем, я не должен забывать, что солдаты могут и приревновать.) Я беспрестанно говорю, и в конце концов обращаюсь уже только к ней: «Такая женщина, как ты, Маруся, и в этом богом забытом месте?! Ты бы везде могла иметь успех и должна была бы ходить вся в бриллиантах, мехах и кружевах!» Но, кажется, роскошь ее совсем не интересует. «Такие вещи я вижу каждый день, но мне их не хочется иметь,— отвечает она мне своим низким голосом.— Мне же приходится досматривать знатных дам, когда они проходят. На них бывает тонкое белье, все из шелка, и пахнут они хорошо, но чаще всего они некрасивые. А где они прячут свои бриллианты, ты даже представить себе не можешь». Для своей работы ей хватало энтузиазма, бесцеремонная, но честная «разбойница». Я убежден, что ничего из конфискованных вещей она не присваивала себе, а все честно сдавала. Она выпила за мое здоровье, и я увидел ее сверкающее белизной горло. Красногвардейцам, хотя они и опьянели, нужно было идти в караул. Комиссар с шумом попрощался и пошел спать. Мой попутчик тоже лег на свою полку и неестественно громко захрапел.
Теперь Маруся и я остаемся в жарком вагоне одни. Воздух отвратительный, в середине помещения горит печка буржуйка, яркие коммунистические плакаты украшают деревянные стены, тускло светит лампа. Маруся говорит: «Ты, я очень хочу пить чай. Давай сходим к реке и наберем под мостом воды». За окном темная ночь, и мне очень хочется пойти с нею за водой. Азербайджанец ворочается в постели и бормочет, как во сне (конечно, на своем языке): «Не глупи, солдаты узнают и расстреляют тебя». К сожалению, он прав и не так уж глуп. Тогда я говорю: «На улице холодно. Если ты так хочешь чаю, душенька моя, я прикажу солдату принести воды». Держа чайник в руке, я кричу через окно, красноармеец приносит воды, и Маруся получает свой чай. Теперь она потеряла свою смугло-розовую свежесть, побледнела и обмякла. Глаза увлажнились и затянулись туманной поволокой, напоминая жидкое серебро. В таком виде она была просто великолепна. Какими привлекательными казались мне обычно на женщинах кружевные оборочки, шелковые чулки, ухоженная и благоухающая кожа, розовые зеркальца наманикюренных ногтей. А у Маруси, в отличие от них, были крепкие, огрубевшие от ветра ноги в стоптанных туфлях, а под жесткой кожаной юбкой ничего, кроме хлопчатобумажной рубашки грубого покроя. Зато она вся такая, какая есть, и я не желаю для себя ничего другого и ничего лучшего. Мы уже больше не разговариваем. Тут меня своим храпом останавливает азербайджанец, он ворчит: «Отстань от нее, она, наверное, больна!» Черт бы его побрал! Кто назначил его моим сторожем?
Теперь я немного трезвею, совсем чуть-чуть, но и этого достаточно, и я понимаю, что мне снова надо начать разговаривать. Тут ко мне возвращаются мои тревоги и отравляют мое сердце: «А не приедет ли сегодня председатель ЧК? Как ты думаешь?» — «Нет,— отвечает она,— сегодня наверняка нет. Он же вчера и позавчера был здесь. А почему? Ты что, знаешь его?» — «Разумеется,— отвечаю я.— Он мой друг. Я надеялся увидеть его здесь, ты можешь передать ему от меня привет, дитя мое». Она смотрит на меня с почтением. Теперь, вероятно, я в ее глазах стал полубогом, так как она доброе существо — доверчивая крестьянская душа!
Тут в ночи раздается далекий пронзительный свист, он приближается, усиливается. Поезд, в который мы садимся, едет на грузинскую пограничную станцию, расположенную на противоположном берегу реки. Шесть часов утра. Азербайджанец тут же просыпается и встает, его деловитость передается и мне. Нетерпеливо и настойчиво я стучу к комиссару и говорю, что наши вещи еще не проверены. Не совсем протрезвев после вчерашней пьянки, он благодушно отвечает: «Ну что мы будем проверять вас? И так все хорошо». Нам быстро ставят печати в паспорта. Два солдата берут багаж, и мы идем к мосту. Маруся шагает рядом со мной, ее рука в моей руке. Она растрогана. «Обещай мне, что ты будешь думать обо мне в Тифлисе» (что я могу уехать дальше Тифлиса, ей и в голову не приходит).— «Конечно, конечно, милая, как же иначе!» Мы дошли до моста, Маруся должна была возвращаться. Еще минуту мы стояли рядом, и тут я достал из кармана пакетик с импортным туалетным мылом, которое я получил в подарок от гостеприимной хозяйки квартиры в Баку, где мне был оказан радушный прием. Я дарю его Марусе и говорю: «Смотри, Маруся, это тебе от меня маленький подарок на прощание. Понюхай-ка, это очень нежное мыло. Умывайся им и каждый раз, когда ты будешь вдыхать его запах, думай обо мне. Хорошо? А теперь прощай!» Короткое рукопожатие, и мы расстаемся. Уже перейдя мост, я оборачиваюсь и вижу, что на другом берегу все еще стоит отважная разбойница и усердно машет мне своим красным платочком. «Прощай, Маруся! — кричу я изо всех сил.— Я как-нибудь еще приеду!» Затем я наклоняюсь, набираю горсть грузинской земли, прикладываю ее к своим губам со словами: «Да здравствует свобода!»
«Тоже мне ухажер!» — ворчит мой попутчик, недовольный и одновременно восхищенный. Мы подходим к своему поезду. Иншаллах!
В Тифлисе я провел пять очень радостных и беззаботных дней — впервые за долгое время. Красивый город пробудил во мне воспоминания о прежней жизни. Все время с утра до ночи я проводил с друзьями, спасенный и счастливый, как только что освобожденный пленник. У меня было рекомендательное письмо к турецкому послу Касим-бею, который должен был помочь мне в дальнейшем. Ведь мне нужно было срочно покинуть Грузию. Каждый день я повторял своим друзьям, что завтра обязательно должен уехать.
Однако время шло, а вопрос о моем отъезде оставался все еще нерешенным, как вдруг раздался гром пушек. Большевики обрушили на город бомбовые удары. Начались замешательство и паника. Моего приподнятого настроения как ни бывало. Сломя голову и бросив прямо на вокзале на произвол судьбы мои чемоданы, азербайджанец уехал обратно. И вот так, без багажа, оставшись лишь в том, в чем был, я в обществе нескольких дипломатов покинул Тифлис и уехал в Кутаис. Но и тут нам нельзя было долго оставаться. И волна беженцев отнесла нас дальше, в Батум.
Там мы надеялись оказаться в безопасности и целыми днями и ночами праздновали свое спасение, запивая его вином. Почти вырвавшись из всех оков и по молодости быстро привыкнув к своей новой бродячей жизни, окруженный только людьми, разделявшими со мной похожую судьбу, я начал находить удовольствие в попойках. Этому особенно способствовало вызываемое алкоголем легкое и приподнятое настроение, которое превращало наше несчастье в яркую авантюру, стиравшую наше прошлое. А неопределенное будущее представало перед глазами беженцев как сверкающая фата-моргана, то есть мираж. Именно в это время случилось так, что я встретил невесту своего знакомого, приехавшую из Владикавказа. Мы часто проводили время вместе. Я находил ее очаровательной, и, видимо, я ей тоже нравился, так как жених, молодой офицер, был далеко, а помолвки в то время были чем-то очень непрочным. Однако нам обоим судьба отвела совсем немного времени, так как через четыре дня, когда преследователи уже в который раз стояли перед городом, нам было предложено срочно покинуть его.