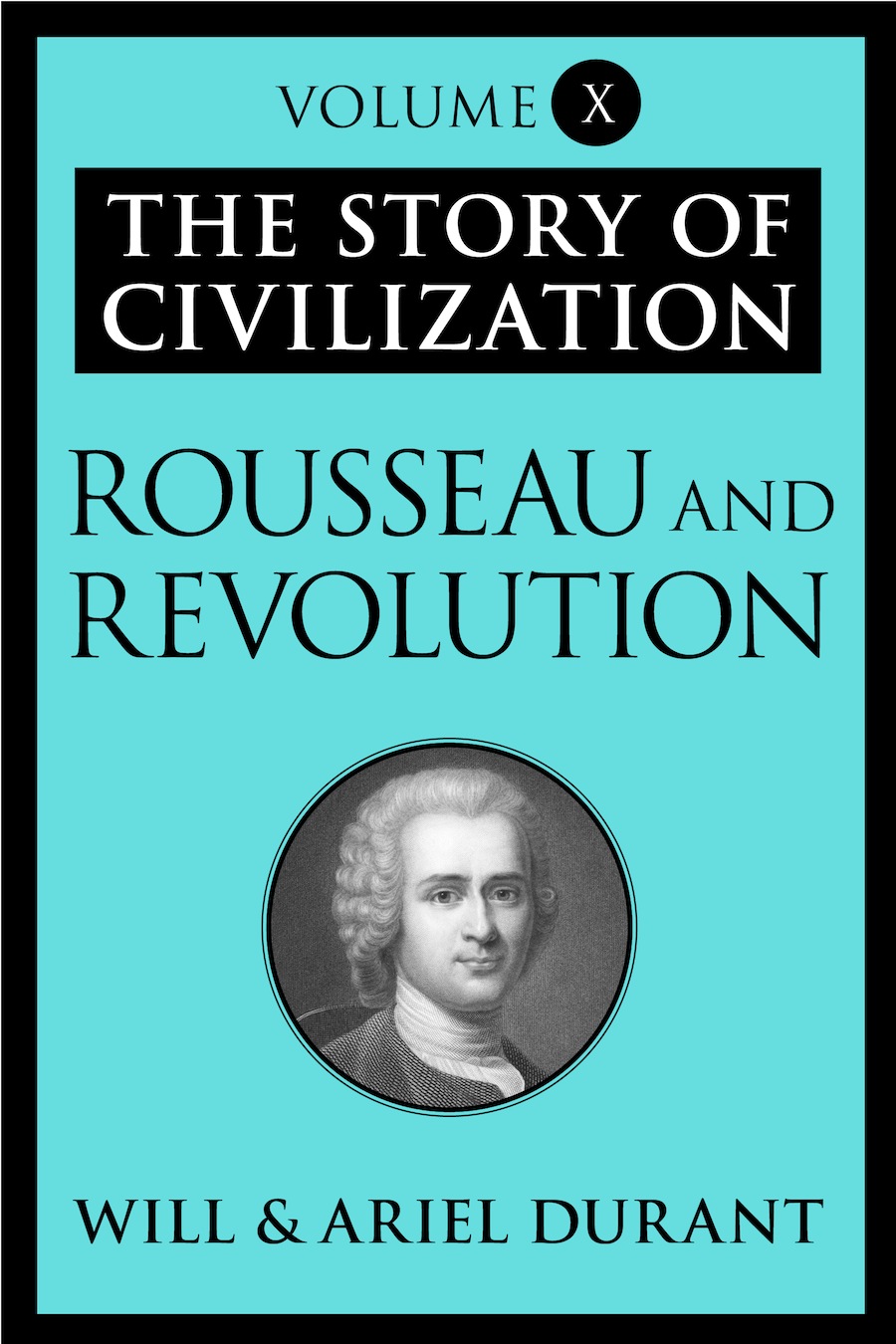выработана изучением латыни и французского; он находил простые англосаксонские слова неподходящими для достоинства его манеры, и часто он писал как оратор - Ливи, отточенный сатирой Тацита, Берк, одаренный остроумием Паскаля. Он балансировал между положениями с мастерством и восторгом жонглера, но играл в эту игру так часто, что иногда она доходила до монотонности. Если его стиль кажется напыщенным, то он соответствовал размаху и великолепию его темы - тысячелетнему крушению величайшей империи, которую когда-либо видел мир. Порочные грехи его стиля теряются в мужественном марше повествования, энергичности эпизодов, обличительных портретах и описаниях, магических итогах, которые охватывают столетие в одном абзаце и соединяют философию с историей.
Взявшись за столь обширную тему, Гиббон счел оправданным сузить ее рамки. "Войны и управление государственными делами, - говорил он, - вот главные предметы истории".121 Он исключил историю искусства, науки и литературы, поэтому ему нечего сказать о готических соборах или мусульманских мечетях, об арабской науке или философии; он короновал Петрарку, но обошел стороной Данте. Он почти не обращал внимания на положение низших классов, на подъем промышленности в средневековом Константинополе и Флоренции. Он потерял интерес к византийской истории после смерти Ираклия (641). "Ему не удалось, - по мнению Бьюри, - осветить тот важный факт, что [до] двенадцатого века [Восточная Римская] империя была оплотом Европы против Востока; он также не оценил ее значение в сохранении наследия греческой цивилизации".122 В установленных рамках Гиббон достиг величия, связав следствия с естественными причинами и сведя необъятные материалы к разумному порядку и ориентирующей перспективе целого.
Его эрудиция была огромной и подробной. Его сноски - это сокровищница знаний, сдобренная остроумием. Он изучал самые сложные аспекты классической древности, включая дороги, монеты, весы, меры, законы. Он допускал ошибки, которые специалисты исправили, но тот же Бьюри, который указал на его ошибки, добавил: "Если принять во внимание огромный диапазон его работы, его точность поражает".123 Он не мог (как профессиональные историки, ограничивающие себя небольшой областью предмета, места и времени) зарыться в ненапечатанные первоисточники; чтобы выполнить свою работу, он ограничился печатными материалами и частично полагался на вторичные авторитеты, такие как "История сарацин" Оккли или "История императоров" и "История экклезиастики" Тиллемона; некоторые из авторитетов, на которые он опирался, сегодня отвергнуты как не заслуживающие доверия.124 Он честно указывал свои источники и благодарил их; так, когда он вышел за пределы времени, рассматриваемого Тиллемоном, он сказал в сноске: "Здесь я должен навсегда расстаться с этим несравненным гидом".125
К каким выводам пришел Гиббон, изучая историю? Иногда он вслед за философами признавал реальность прогресса: "Мы можем согласиться с приятным выводом, что каждая эпоха в мире увеличивала и продолжает увеличивать реальное богатство, счастье, знания и, возможно, добродетель человеческого рода".126 Но в менее приятные моменты - возможно, потому, что он принимал войну и политику (и теологию) за содержание истории, - он считал, что история "действительно не более чем реестр преступлений, глупостей и несчастий человечества".* 127 Он не видел в истории никакого замысла; события являются результатом неуправляемых причин; они представляют собой параллелограмм сил различного происхождения и составного результата. Во всем этом калейдоскопе событий человеческая природа, кажется, остается неизменной. Жестокость, страдания и несправедливость всегда были и будут свойственны человечеству, ибо они заложены в его природе. "Человеку гораздо больше приходится бояться страстей своих собратьев, чем судорог стихий".129
Дитя эпохи Просвещения, Гиббон мечтал стать философом или, по крайней мере, писать историю философски. "Просвещенный век требует от историка некоторого оттенка философии и критики".130 Он любил прерывать свое повествование философскими комментариями. Но он не утверждал, что сводит историю к законам или формулирует "философию истории". Однако по некоторым основным вопросам он занимал определенную позицию: он ограничивал влияние климата ранними стадиями цивилизации; он отвергал расу как определяющий фактор;131 и признавал, в определенных пределах, влияние исключительных людей. "В человеческой жизни самые важные сцены зависят от характера одного актера. ... Язвительный юмор одного человека может предотвратить или приостановить страдания целых народов".132 Когда корейши могли убить Мухаммеда, "копье араба могло изменить историю мира".133 Если бы Карл Мартель не разбил мавров при Туре (732 г.), мусульмане могли бы захватить всю Европу; "толкование Корана теперь преподавалось бы в школах Оксфорда, и ее ученики могли бы продемонстрировать обрезанному народу святость и истинность откровения Магомета "133. От таких бедствий христианство было избавлено гением и удачей одного человека".134 Однако для максимального влияния на свое время исключительный человек должен опираться на какую-то широкую опору. "Эффект личной доблести настолько незначителен, за исключением поэзии и романтики, что победа... должна зависеть от степени мастерства, с которым страсти толпы объединяются и направляются на службу одному человеку".135
В целом "Упадок и падение Римской империи" можно назвать главной книгой восемнадцатого века, а ближайшим ее конкурентом - "Правовое государство" Монтескье. Она не была самой влиятельной; по силе воздействия на историю она не может сравниться ни с "Общественным договором" Руссо, ни с "Богатством народов" Адама Смита, ни с "Критикой чистого разума" Канта. Но как произведение литературного искусства она была непревзойденной в свое время и в своем роде. Когда мы спрашиваем, как Гиббону удалось создать такой шедевр, мы понимаем, что это было случайное сочетание амбиций с деньгами, досугом и способностями; и мы удивляемся, как скоро можно ожидать повторения такого сочетания. Никогда, говорит другой историк Рима, Бартольд Нибур, "труд Гиббона никогда не будет превзойден".136
VI. ЧАТТЕРТОН И КОВПЕР
Кто бы мог сейчас предположить, что в 1760 году самым популярным из ныне живущих английских поэтов был Чарльз Черчилль? Сын священника и сам рукоположенный в сан англиканского священника, он предался удовольствиям Лондона, уволил жену, накопил долгов и написал некогда знаменитую поэму "Росиада" (1761), которая позволила ему оплатить долги, выплатить пособие жене и "предстать в вопиюще неклерикальном наряде как человек в городе".137 Поэма получила свое название от имени Квинта Росция, который господствовал в римском театре во времена Цезаря; в ней сатирически изображены ведущие актеры Лондона, что заставило Гаррика вздрогнуть; одна из жертв "бегала по городу, как пораженная лань".138 Черчилль присоединился к Уилксу в ритуальных обрядах Медменхемского аббатства, помог ему написать "Северного британца" и отправился во Францию, чтобы разделить изгнание Уилкса; но он умер в Булони (1764) от пьяного дебоша и "с эпикурейским безразличием".139
Другой священнослужитель, Томас Перси, дожил до конца своих дней, стал епископом Дромора в Ирландии и оставил след в европейской литературе, вызволив из рук горничной, которая собиралась его сжечь, старинную рукопись, ставшую источником для его "Реликвий древней