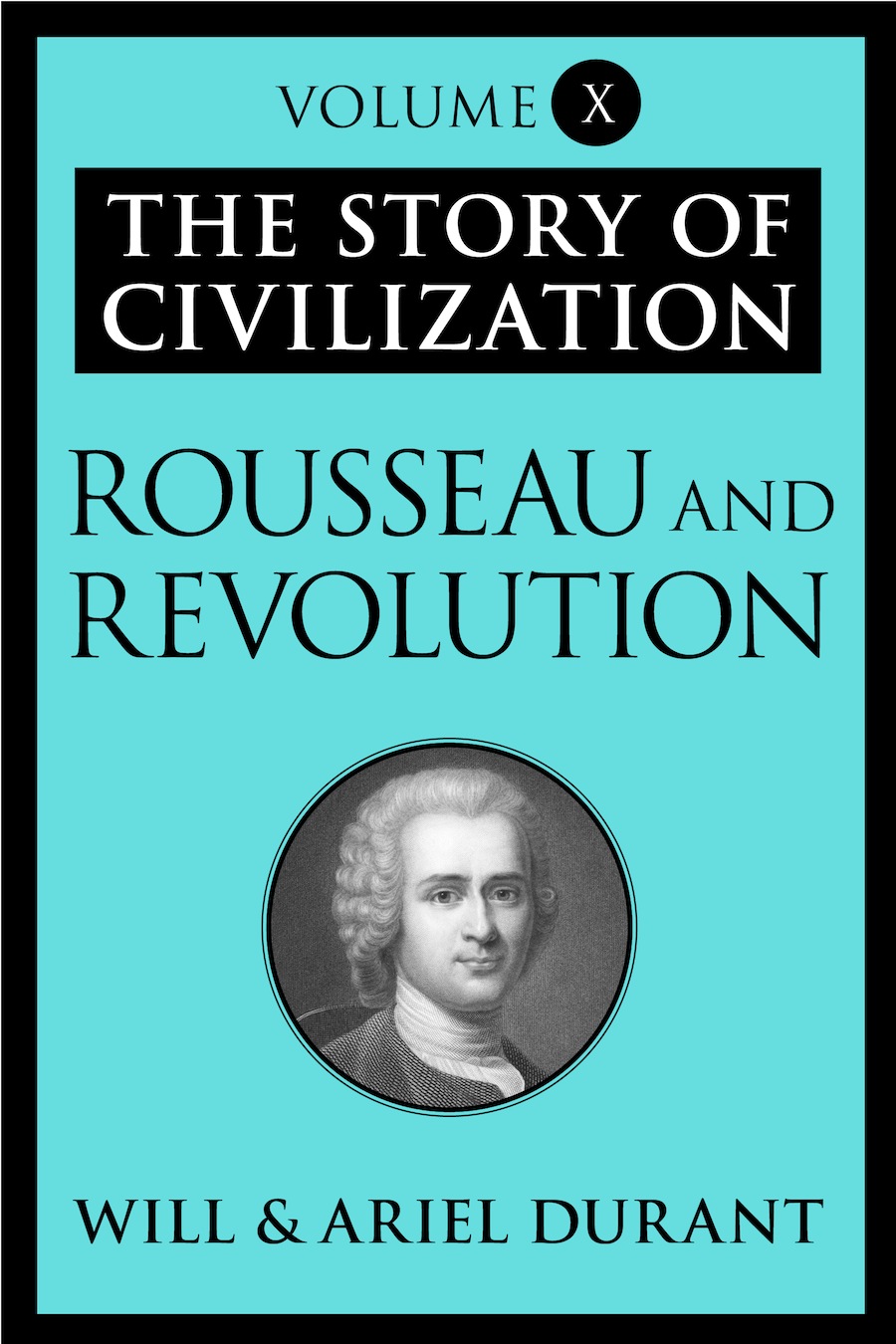написать строки поэта в "Добродушном человеке": "Жизнь в самом великом и лучшем виде - всего лишь капризное дитя, которое нужно ублажать и уговаривать, пока оно не заснет, и тогда все заботы закончатся".174
ГЛАВА XXXIII. Сэмюэл Джонсон 1709-84
I. ГОДЫ ДЕФОРМАЦИИ: 1709-46
Он был уникален и в то же время типичен; не похож ни на одного англичанина своего времени, но в то же время олицетворял собой Джона Буля душой и телом; превосходил современников во всех областях литературы (кроме лексикографии), но при этом доминировал над ними на протяжении целого поколения, царствуя над ними, не повышая ничего, кроме своего голоса.
Давайте вкратце расскажем о тех ударах, которые нанесли ему его особый облик. Он был первым ребенком, родившимся у Майкла Джонсона, книготорговца, печатника и канцеляриста в Личфилде, в 118 милях от Лондона. Мать, урожденная Сара Форд, происходила из слабого сословия. Ей было тридцать семь лет, когда в 1706 году она вышла замуж за Майкла, которому было пятьдесят.
Самуил был болезненным ребенком, настолько слабым при рождении, что его сразу же крестили, чтобы, умерев некрещеным, он, по законам теологии, не оказался навечно в Лимбе, мрачном притворе ада. Вскоре у него появились признаки золотухи. Когда ему было тридцать месяцев, его мать, будучи беременной вторым сыном, взяла его с собой в долгую поездку в Лондон, чтобы королева Анна "приласкала его для королевского зла". Королева сделала все возможное, но болезнь стоила Джонсону одного глаза и одного уха и вместе с другими бедами обезобразила его лицо.1 Тем не менее он окреп мускулами и телом; и его сила, как и его объем, поддерживали тот абсолютизм, который, как жаловался Голдсмит, превратил республику букв в монархию. Сэмюэл считал, что унаследовал от отца "мерзкую меланхолию, которая всю жизнь делала меня безумным, по крайней мере, не трезвым".2 Возможно, как и в случае с Каупером, его ипохондрия имела не только физическую, но и религиозную основу: мать Джонсона была убежденной кальвинисткой и считала, что вечное проклятие не за горами. Сэмюэл страдал от страха перед адом до самой смерти.
От отца он перенял торийскую политику, якобинские взгляды и страсть к книгам. Он охотно читал в магазине своего отца; позже он сказал Босуэллу: "В восемнадцать лет я знал почти столько же, сколько сейчас".3 После начального обучения он перешел в Личфилдскую грамматическую школу, где директор был "настолько жесток, что ни один человек, получивший от него образование, не отправил своего сына в ту же школу";4 Однако, когда в последующие годы его спросили, как ему удалось так хорошо овладеть латынью, он ответил "Мой хозяин очень хорошо меня выпорол. Без этого, сэр, я бы ничего не добился".5 В старости он сожалел об устаревании розги. "Сейчас в наших великих школах пороть стали меньше, чем раньше, но и учатся там меньше, так что то, что мальчики получают на одном конце, они теряют на другом".6
В 1728 году его родители нашли средства, чтобы отправить его в Оксфорд. Там он поглощал греческую и латинскую классику и досаждал своим учителям неповиновением. В декабре 1729 года он поспешил вернуться в Личфилд, возможно, потому, что закончились родительские средства, или потому, что его ипохондрия настолько приблизилась к безумию, что ему требовалось лечение. Он получил его в Бирмингеме; затем, вместо того чтобы вернуться в Оксфорд, он помогал в магазине своего отца. Когда отец умер (в декабре 1731 года), Сэмюэл пошел работать помощником учителя в школу в Маркет-Босворте. Вскоре ему это надоело, и он переехал в Бирмингем, жил у книготорговца и заработал пять гиней, переведя книгу об Абиссинии; это был отдаленный источник "Расселаса". В 1734 году он вернулся в Личфилд, где его мать и брат продолжали торговать. 9 июля 1735 года, когда ему не исполнилось и двух месяцев, он женился на Элизабет Портер, сорокавосьмилетней вдове с тремя детьми и 700 фунтами стерлингов. На ее деньги он открыл школу-интернат в соседнем Эдиале. Дэвид Гаррик, личфилдский мальчик, был одним из его учеников, но этого было недостаточно, чтобы примирить его с педагогикой. В нем бродило авторское начало. Он написал драму "Ирэн" и отправил Эдварду Кейву, редактору "Журнала джентльмена", письмо, в котором объяснял, как можно улучшить это периодическое издание. 2 марта 1737 года вместе с Дэвидом Гарриком и одной лошадью он отправился в Лондон, чтобы продать свою трагедию и пробить себе место в жестоком мире.
Его внешность была против него. Он был худым и высоким, но с большим костяным каркасом, который придавал ему форму углов. Его лицо было покрыто пятнами золотухи и часто возбуждалось конвульсивными подергиваниями; его тело было подвержено тревожным движениям; его разговор сопровождался странной жестикуляцией. Один книготорговец, к которому он обратился за работой, посоветовал ему "устроиться носильщиком и таскать чемоданы".7 По-видимому, Кейв его подбодрил, так как в июле он вернулся в Личфилд и привез жену в Лондон.
Он был не лишен тонкости. Когда Кейв подвергся нападкам в прессе, Джонсон написал поэму в его защиту и послал ее ему; Кейв опубликовал ее, дал ему литературные заказы и вместе с Додсли выпустил (в мае 1738 года) "Лондон Джонсона", за которую они дали ему десять гиней. Поэма откровенно подражала Третьей сатире Ювенала и поэтому подчеркивала плачевные стороны города, который автор вскоре полюбил; она также была нападением на администрацию Роберта Уолпола, которого Джонсон позже назвал "лучшим министром, который когда-либо был у этой страны".8 Поэма отчасти была гневным выпадом деревенского юноши, который, прожив год в Лондоне, все еще не был уверен в завтрашнем пропитании; отсюда знаменитая строка "Медленно растет ценность, бедностью подавленная".9
В те дни борьбы Джонсон обращался к любому жанру. Он писал "Жизни выдающихся людей" (1740) и различные статьи для "Джентльменского журнала", в том числе воображаемые отчеты о парламентских дебатах. Поскольку отчеты о дебатах были пока запрещены, Кейв решил притвориться, что его журнал просто записывает дебаты в "Сенате Магна Лилипутии". В 1741 году эту задачу взял на себя Джонсон. На основе общей информации о ходе дискуссий в парламенте он составлял речи, которые приписывал персонажам, чьи имена были анаграммами для главных соперников в палате.10 Дебаты были настолько правдоподобны, что многие читатели принимали их за стенографические отчеты, и Джонсону приходилось предупреждать Смоллетта (который писал историю Англии), чтобы он не полагался на них как на факты. Однажды, услышав похвалу в адрес речи, приписываемой Чатему, Джонсон заметил: "Эту речь я написал в мансарде на Эксетер-стрит".11 Когда кто-то похвалил беспристрастность его отчетов, он