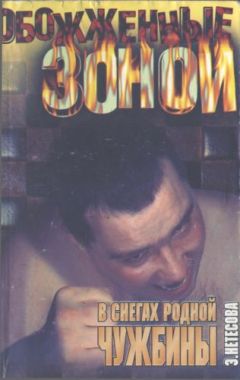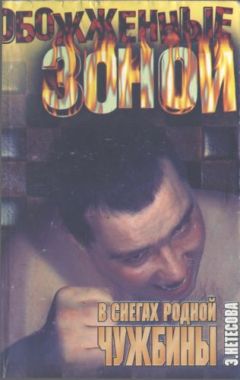— Стремачей сама упою до визгу. На поминках. Они не откажутся за упокой на холяву ужраться. Ведь дружили с ним.
— Но тот, кто жив останется, и заподозрит, убьют вас!
— Ну и что? Мне уже все равно, — отмахнулась баба, спрятав слезы в платок.
— Не лучше ли будет помочь нам выловить воров? Не только за свое им отплатить, всему городу поможете. Ведь вон сколько горя они приносят людям! Каждый день!
— Не-ет! В суки — не согласна! Я по-своему хочу. Без мусоров разделаться, свою разборку проведу. С каждым, кто моего полюбовника замокрил.
Любка долго еще отвечала на вопросы следователя. Она рассказала все, что знала о каждом фартовом. О тех, кто ближе других к Медведю и кому тот не доверяет. Кто сбежал из ходки и фартует в «малине». Кто должен вернуться из зоны, кому посылают «грев» законники.
Именно от нее узнал Коломиец, что «малина» имеет своих осведомителей и наводчиков. Им она платит, и те всегда говорят, когда и где будут выдавать зарплату, куда привезут деньги.
Следователю стало не по себе, когда услышал, что фартовые пристегнули своих стопорил не только к нему, но и ко многим работникам горотдела. И те, если потребуется, по слову «малины» в любой момент могут убить его не только на улице, но и дома.
До поздней ночи говорил следователь с одноглазой. Беда заставила бабу раскрыться целиком. Коломиец едва успевал записывать сведения.
Дежурный оперативник несколько раз приносил им чай. И баба, не оглядываясь, не боясь, рассказывала о привычках, особых приметах, почерке фартовых, которых знала много лет.
— Вам не надо гоняться за всеми. Сорвите цвет — голову «малины». Без нее остальные враз попухнут.
— А голова — Медведь?
— Его я не знаю. Но никакой пахан без фартовых дышать не сможет. У них есть такие, без кого невпродых. Медвежатник-Филя. Он после Дяди объявился в Охе. Его сфаловали издалека. Привезли. И держат в чести. Он не на все дела ходит. Только туда, где сейф надо открыть. Лучше Фили этого никто не может сделать. По «рыжухе» — свой. Он в ювелирные ходит. Говорят, в темноте на ощупь пробу золота определяет. И камешки. С трещиной. Браковку не берет. Только цимес, люкс. И никогда не ошибся, даже по бухой его проверяли. Без прокола отличил. На таких «малина» держится. Остальные — перхоть, говно, — сморщилась баба.
Она подробнейше рассказала обо всех, кто был сердцем и мозгом «малины».
— Прикипелся к кентам в гастролях ферт один. Старый хрен. На него если глянуть — сущий сушеный катях. У нас в Охе ханыги — краше. Но неспроста его чуть не в кубышке держат фартовые. У этого трясучего мокрожопого хорька в колгане целый сейф всяких знаний. Он с первого взгляда отличает дорогие вещи. Каким цены нет. — Баба проглотила кусок хлеба, запила чаем и продолжала: — Как-то он пришел на барахолку с законниками. И застрял около одной старухи. Вцепился в статуэтку, какую баба сбыть решила, на кусок хлеба получить. У деда аж пальцы свело. Не может статуэтку выпустить. Бабка за нее трояк просила. Взяли. Оказалось, что эта статуэтка из платины. Да еще очень древняя. Какая-то царица заморская. Ее если на знатока иль в музей — мильены загрести можно. То шкатулку из слоновой кости индийских мастеров выудил, то набор из богемского стекла, то редкостную картину присмотрит. А однажды блюдо приволок. У ханыги на бутылку вермута выменял. Отчистил его — глядь! Красота неописуемая! Дворцы, церкви, как живые! Солнцем светятся. Видать, господа с него хавали. Оказалось, это блюдо — старей меня! Ему тыща лет! С чистого золота! Червонного. Если б тот ханыга знал, как он продешевил, задавился б насмерть. Так вот этого деда Медведь всегда при себе держит. Как талисман. На удачу.
Одноглазая рассказала, как засыпает тот старик пахана всякими антикварными вещами.
— Он работает в похоронном бюро. И делает гробы. Но это не для заработка. Ему деньги эти — пыль. По домам шляется. Где жмуры завелись. Мерку снять с покойников. Но главное не это. Смотрит, есть ли в доме ценные вещицы. Коли подметит, шепнет пахану. Тот домушников пошлет. Укажет, что ему надо. Те стараются, из дресен лезут. Проследят, когда в доме никого, и возникают… Обчистят до нитки. А вместо доли фартовому пахану — безделушку. Так и ладят промеж собой.
Коломиец слушал внимательно. А утром выпустил одноглазую под расписку о невыезде, договорился, что та ничего не утворит на Сезонке и раз в неделю будет приходить в горотдел.
Коршун сидел в постели, забинтованный с ног до головы. Весь в швах, гипсе, мазях, будто его только что выдавили из тюбика.
Он был один. Оглядывался по углам и матерился зло:
— Мандавошки вонючие, падлы сракатые, пихают мне хамовку, какую требуха не держит! Заладило блядью — супчик протертый, бульон куриный, котлетка паровая! Это разве жратва? Мне уже две недели срать нечем от нее. На колесах и уколах приморили! Всю жопу, как сито, издырявили. Паскуды облезлые! Чтоб вас до гроба из клизмы кормили! — ругал Коршун всех и вся, кляня себя за то, что угораздило его выжить.
В дверь палаты заглянула медсестра и, увидев Коршуна сидящим на постели, спросила:
— Вам судно?
Фартовый ушам не поверил. И заулыбался, закивал головой, сердце от радости защемило. Он забыл о гипсе и бинтах, выволок ноги из-под одеяла. Но в это время вошла толстая санитарка, держа в руках ночной горшок.
Она ловко обхватила Коршуна за пояс, приподняла. Втолкнула горшок под зад.
— Ты чего, дура? Кто тебя звал, толстожопая кобыла? Зачем мне под жопу кастрюлю сунула?
— Сам дурак! Просил, мне сказали. Я и принесла, чтоб в постель не насрал!
— Я горшок не просил! От вашей хамовки человеку только копыта отбросить. Не то на горшке ноги не удержат. Ваш повар, муди ему вырвать, весь смак из котла сожрет, а мне говно оставляет. От него в кишках ничего не заводится!
— Молчи уж! Тебе ли жаловаться? Судно подай под зад, накорми, и все недоволен!
— Это судно? Дура безмозглая! Гнида лысая! — понял Коршун свою ошибку.
— Я — гнида! То-то и похожа на нее, что ни в один халат не лезу. Будешь обзываться, не гляну, что больной, по соплям живо съезжу, говнюку! — пообещала баба. И, выдрав горшок из-под задницы Коршуна так, что тот головой в стенку ударился и застонал, хотела выйти, но в эту минуту в палату вошел Баргилов.
— Что вы натворили? — сдвинув брови, он глянул на санитарку.
— Судно взяла у этого! — указала на Коршуна.
— Так взяли, что больной чуть голову не разбил о стену? Вон из больницы! Чтоб духу не было! Сегодня ж, вон!
— Простите, доктор, я не хотела. Он обзывается. Все время. Ну и допек, разозлил. Дурой, гнидой лает. Сколько терпеть можно? Виновата. Простите. Не буду больше, — опустила голову санитарка.
— Идите в ординаторскую! — велел ей Баргилов.
Подойдя к Коршуну, легонько потрепал по плечу:
— Ну, как мой лучший друг себя чувствует? Как аппетит? Женщины по ночам еще не снятся?
— Какие там бабы? Чем меня кормят? Вчера принесли пюре из протертой морковки. От нее своя штуковина забыла, зачем имеется. Голову не поднимает. То бульон куриный! Саму курицу кто схавал? Я ж не пидор, чтоб за кем-то доедать! Хлеба прошу — не дают! Во суки!
Баргилов едва сдерживал смех.
— Нельзя пока грубую пищу. Рано. Швы не выдержат. Потерпеть придется, дружок. За ваше здоровье боремся. Оно пока хрупкое. Потом, когда окрепнете, снимем швы, тогда на здоровье!
— У меня к тому времени жопа зарастет! — Коршун глянул на хирурга зло.
— Не беспокойтесь. Мы ее заставим работать, — засмеялся Баргилов. И, осмотрев его, сказал: — К вам посетитель. Ненадолго. Ведите себя прилично, чтоб я гордился тем, что вернул вам жизнь.
— А кто это? — сжался в комок законник.
Коломиец вошел в палату, не ожидая приглашения.
— Чтоб те все на лоб вылезло! Посетителя подкинул, мать твою! Лягавого! Провалиться ему в парашу, задрыге! Нарисовался, падла, как говно в проруби! — вышел из себя Коршун, вмиг узнав следователя горотдела милиции.
— Спокойно, Коршун! Чего ж так неприветливо? Иль забыл, что за спасение не клянут? Чего злишься? Мне бы стоило претензии предъявить. Но я молчу. Жду. Не готов ты еще к серьезному разговору, как врач сказал. Но вижу, жалеет тебя слишком.
— Отваливай, мусор! Я с тобой не собираюсь трехать, — отвернулся Коршун к стене и замолчал.
— Теперь уж выживешь. На счастье иль беду — того никто не знает. Я рад, что успели тебя спасти. Уходить от смерти вашему брату часто приходится. Но в этот раз ты чудом от нее сбежал. Больше вряд ли удастся. Хоть бы теперь понял, за ум взялся, дожил бы оставшееся человеком.
Коршун молчал. Он старался не слушать следователя.
— Вон Дубина с Макакой моложе тебя были. А вчера похоронили их. Так и прошла жизнь впустую.