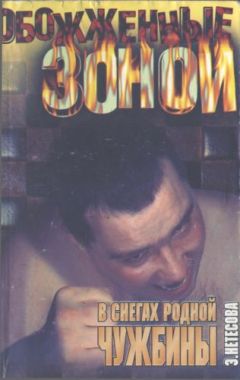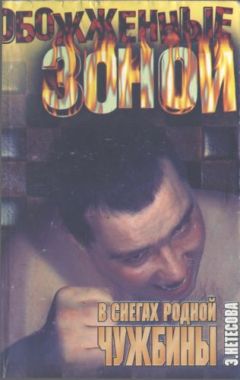— Чего? Что ты вякал? — насторожился Коршун, не без труда повернувшись к следователю.
— Вякал, говоришь? Да если б не я с ребятами, да не Баргилов, давно бы и по тебе поминки справили! Ишь какой смелый стал! Отдышался здесь в палате и хвост пистолетом? Но тут ты не вечно. Выходить придется. О том помнить надо! Что впереди?
— Чего надо? Ведь не повесишь туфту, что справиться о здоровье возник? Меня стремачишь? Чтоб в клетку приморить? Припутал, твоя взяла! Но и я не пальцем делан. На холяву не дамся. Благодетель нарисовался. Он меня спас! Лягавый!
— Это хорошо, что смеяться умеешь! Значит, выздоровеешь! Давай. Не медли. Живей на ноги. И без фокусов.
— А ты меня «на понял» не бери. Лучше про Дубину с Макакой трехни. Верняк, что накрылись кенты?
— Нет их больше. Это правда. Вчера похоронили. А четверо ваших — в тюрьме. Не скоро выйдут.
— На деле припухли?
— Да. На охоте и на деле. Ими теперь прокуратура займется.
— А кого замели?
— У меня по делам никто из них не проходил. Не знаю, — развел руками Коломиец и спросил: — Почему всех фартовых интересует, выжил ты или умер? Зачем надо было убить тебя? Ты что утворил, что все фартовые врагами стали?
— Интересуешься? А зачем? Шмонаешь, за что зацепить, чтобы приклеить дело? Не выйдет! Не обломится!
— Неужели ты настолько пакостный? Как я знаю, никто за тебя на разборке голос не подал. Одной душой решили — убить! Ну и тип ты, Коршун!
— Из-за тебя, гада! — не выдержал фартовый, зло глянув на Коломийца, и скулы его побледнели.
— Не понял, объясни! — потребовал следователь.
Но законник внезапно обхватил руками голову. Сдавливало виски. Резкая боль опускалась от макушки к скулам и оседала тяжестью в каждой клетке.
— Воды. Дай пить, Катька! — позвал фартовый санитарку в последний миг, но той не оказалось рядом.
В глазах запрыгали черные мошки. Вот они сбились в тучу, залепили глаза, закрыли свет.
— Что это с ним? — удивился Коломиец.
— Слаб мужик. У него интерес к жизни пробудить надо. А ты о чем с ним говорил? То-то и оно! Я его у смерти из лап вырываю, а ты его — в могилу. Погоди приходить. Не губи его! Для меня все больные одинаковые. Я не делю их на плохих и хороших. Все, кого оперирую, вроде как родными мне становятся. Привыкаю к ним. Болею за них, не сплю ночами, выхаживаю каждого. Как ребенка заново дышать и жить учу. Они — моя радость. Ведь я их смерть одолел. Другого мне не дано. Но за свое… Не мешай! Когда он выйдет отсюда, как хочешь… А пока — не приходи! — психовал Баргилов.
— Юрка! Давно ли сам бандитом его звал? Что нынче случилось?
— Ничего. Просто была одна ночь, когда он чуть не умер. Таких ночей хватало. И все же эта была страшной. Нужна была кровь. Подошла моя и санитарки. Потом мы с нею до утра около него были. Тебе не понять, что это — вырвать жизнь у смерти!
— Неделю жду. Но потом навещу, — пообещал следователь.
Едва Коломиец вышел из ординаторской, Баргилов заглянул в палату к Коршуну. Тот лежал, отвернувшись лицом к стене, и, казалось, спал.
Но нет… Не до сна ему было. Едва вернулось к нему сознание и черные лужи исчезли из глаз, Коршун увидел белый потолок, белую дверь, белую тумбочку, вспомнил, где он находится. Сердце сжалось от страха перед будущим.
Коршун не боялся смерти. Его пугала неизвестность. Как и все сильные натуры, он не любил неопределенности. И старался избегать их, ускорял развязку.
Больница… Как он попал сюда? Помнил последнее — крик сявок. Они предупредили фартовых о милиции. Хотя кто осмелится сунуться на Сезонку? Да еще открыто? Там фартовых сами жители, собаки, все углы и закоулки берегут. В них новичку как в лабиринте. Не выйти. Только погибнуть.
Милиции оттуда уйти без потерь почти невозможно.
Но кто закинул в больницу? Лягавый трехает — он. Но как? Выходит, кенты бросили его мусорам? Но зачем? Отвлечь их, чтоб самим успеть слинять подальше? Нет-нет, на Сезонке законникам бояться нечего! Там всюду свои, хазы, шмары… Оттуда срываться ни к чему, копошились у него в голове обрывки воспоминаний. И вдруг он улыбнулся. Вчера еще этот чудак-врач нес: мол, чтобы вылечиться скорее, надо не думать о плохом, вспоминать приятные моменты из жизни. Они, мол, бывают у всех.
Светлые минуты… Коршун закрыл глаза. И снова в памяти встал образ бабки. Спокойная добрая сказочница. Она умела печь пироги с грибами, малиной. Ох и вкусными они были! Особо с холодным молоком, которое опускалось в колодезь в глиняном кувшине.
Бабка любила внука больше самой себя. Словно в нем одном вместилась и жила ее ушедшая без возврата молодость с мечтами и скупыми радостями. Мало их выпало на ее долю, оттого хотелось, чтобы судьба внука была светлее.
«Колюшка!» — иначе и не называла мальчишку. Она гладила его плечи, спину, голову шершавыми руками, пахнущими тмином, вишней, укропом. «Спи, мой соколик, радость моя незабвенная», — говорила, закончив сказку, и укрывала внука одеялом, чтоб ни сквозняк, ни холод не пробрались к нему. Она берегла его от бед и от бурь, от чужих людей и от ссор родни.
Колька любил засыпать на ее коленях. Бабка перебирала его волосы, напевая тихо что-то знакомое, дорогое и давнее.
Какими добрыми и большими, какими усталыми были ее руки! Они так много работали и умели все.
Колька знал каждую венку, всякий ноготь сызмальства. Бабка была для него всем на свете. Ее одну он любил и слушался, ею дорожил и помнил всегда.
Конечно, убегал он вместе с мальчишками на речку. Она была мелкой и чистой, как глаза деревенских людей.
Там он купался с ровесниками. Ловил плотву и пескарей. Любил играть в догонялки на лугу. Повзрослев, гонял коней в ночное, спал на сеновале, раскинувшись в душистом клевере. Его берегла бабка. Не загружала работой. Не просила помочь. Сама старалась управиться везде.
Подрастая, Колька не враз заметил, как состарилась она, как поседела. Согнулась ее спина. Бабка теперь реже выходила в сад. И Колька сам обкапывал яблони и вишни, смородину и малину.
— Устала я, Коленька, — пожаловалась она как-то и вдруг заплакала.
Такого с ней не случалось никогда. Бабка не любила разговоров о болезнях, никого не осуждала и не ругала. Жила своим трудом, лишь у Бога прося помощи и защиты.
О родителях Кольки она долго не рассказывала мальчишке. Ждала, когда подрастет, окрепнет, сильным станет. Но Колька ждать не хотел. И однажды спросил настойчиво:
— Где мои отец и мать? Почему я их не знаю? Это правда, что люди говорят, будто их у меня уже давно нет! Убили, как врагов народа?
Бабка оглядела Кольку выцветшими глазами. И ответила, не обидевшись, не прокляв никого:
— Не все верно, что люди молвят. Много ль знают они о нас? Да ничего. Потому как в каждой избе своего горя и бед больше, чем блох водится. Вот и смотрели бы у себя! Зачем твою душу смущать? Не верь, детка, никакими ворогами никому не были твои родители. Это как Бог свят! Правда истинная… И никто их не убил, дитятко наше.
— А где они? Почему не живут с нами? — впервые не поверил мальчуган.
— Далеко они, Коленька! Аж на самой Колыме маются! За полземли от деревни нашей. На краю света. Там не то что люди, черт пятки отморозит. Уже какой год бедуют родимые. А еще много! Ой как много им терпеть! Дожили б, дал бы Господь!
— Почему они там живут? Почему к нам не приедут? — спросил Колька упрямо.
— Не пускают их, миленький. Под неволей маются. В тюрьме оба! — заплакала бабка, подняв взгляд на икону Спасителя.
— А за что?
— Отец твой председателем колхоза был. Мать — ветврачом работала в нашей деревне. Скотину лечила от хворобы всякой. Грамотные они люди, культурные. Не то что эти — кто судит их ноне. При твоем отце в деревне порядок был, все при деле — работали на своих местах. Не лодырничали, не пьянствовали. И всего всем хватало. Колхоз передовым хозяйством был. И хлеба досыта в каждой избе водилось, и никто не голодал. Детвы рожалось много. Люди с колхоза не убегали. Не то что нынче — все в город едут. От лиха. Выжить бы! Твой отец хозяином на земле был. Все насквозь знал. Сам с малолетку на земле работал. Чтоб где промашку не дать, к старикам за советом шел. Те его уважали.
— А зачем он в тюрьме?..
— Беда свалилась, родимый, как снег на голову. В начале мая, такого никто не помнил, снег пошел. Не заморозки, такое бывало, всамделишный снег, цельными сугробами на поля лег. Три дня пурга мела. Когда она кончилась, растаял снег, глянули мы на поля, а там все погибло и повымерзло. Ни одной живой травинки во всей округе не уцелело. И не только у нас в деревне, всех одолела эта напасть. Все сады облетели. Ну, поля пересеяли кое-как. Не все, конечно. Семян дали мало. Да и где их набраться на каждого? Тогда, впервые за все годы, не смог колхоз сделать план, сдать хлеб, картоху властям. Пересеянное не все доспело. Что собрали — вернули взятые в долг под урожай семена. Остатнее в закрома засыпали, чтоб на будущий год было чем поля засевать. Ну, а с району начальство приехало. Злее воронья. Все хорошее вмиг забыли. И, словно не ведая про случившуюся напасть весной, стали требовать сдать все зерно государству. До единого. Отец твой поначалу уговаривал начальников, убеждал, что нельзя колхоз разорять, что на будущий год, если не подведет погода, за оба года одним махом рассчитается. Да кто его слушал? Пригнали с району машину и к амбарам — хлеб забрать. Отец уперся и ни в какую. Не велел отдавать. Крик поднял на всю деревню. Назвал начальство дураками, безмозглыми, грабителями и еще как-то по-ученому обозвал. Но не помогло. Хлеб силой забирать стали. Твоя мать баб собрала зерно отстоять. С вилами пришли. Да что там бабы? Мужиков, какие за отца вступились, всех до полусмерти избивали, звери лютые. Баб — и подавно. Разогнали по домам. Родителей твоих, как зачинщиков бунта в деревне, за оскорбление властей, укрывательство хлеба, невыполнение плана по сдаче зерна этой же ночью забрали из дома и без суда увезли на Колыму. Вначале и впрямь расстрелять решили. О том всей деревне объявили. Чтоб запугать. От стара до мала. Чтоб никто не смел больше с властями спорить. И своего добились. Кому терять башку охота за колхозное? Да гори оно синим пламенем, решили люди и остыли к земле. Власть возненавидели: которые бусурманами в деревнях грабят. Оттого и уезжать начали. Особо молодые. Кто устал от трудов наших и горя. В городах завсегда прокормиться легче.