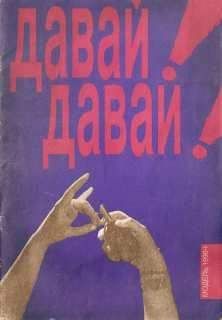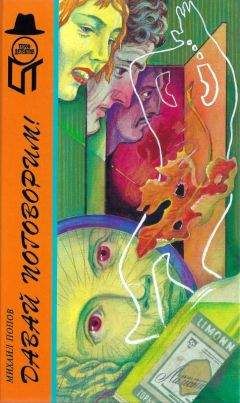постели, так вникать и таким гражданским темпераментом обладать. Вот, значит, какое они себе подобрали объяснение. И я улыбнулся им на прощание полублаженной улыбочкой опекаемых телевидением инвалидов, стоически сносящих свое положение. Откуда бы сейчас появиться моде на терпеливых? Следователи по очереди и очень осторожненько похлопали меня по плечу и отчалили. К Платону они заходить не стали, видимо, решили, что он серьезный злоумышленник, раз скрыл случай с пистолетом, и с налету его не взять.
Истерическое возбуждение давно уже спало. Будем надеяться, что я теперь до самого конца останусь таким же трезвым, как в конце разговора с пинкертонами. И не будем себя презирать за то, что это возбуждение мне удалось подавить не сразу, я все же человек. Даже недочеловек, и было бы смешно, когда бы и обладал нечеловеческим спокойствием.
За этими размышлениями я провел минут двадцать, а может, и полчаса. Ко мне, как ни странно, никто не пытался зайти. Но жизнь шла, по другим руслам, но текла. Платон повис на телефоне. Замызганный аппаратик, весь обклеенный изолентой, — результат брюхановского к нему отношения — установили в незапамятные времена в закутке возле туалета. Что-то очень двусмысленное мне всегда виделось в этом размещении. Телефоном пользовались чаще всех два человека: Мариночка — она в основном принимала направляемые ей звонки — и Платон, длинно, нудно и ежедневно кого-то добивавшийся. Угол стены возле аппарата постепенно покрылся цифрами и письменами, их не пытались закрашивать, понимая, что это так же бесполезно, как бороться с надписями в туалете.
Явилась Варвара, вид она имела необычный, подавленно-озабоченный. Мы с ней всегда разговаривали мало: «Будешь есть?», «Дай попить». Иногда месяцами — ни одного живого слова. Отношения наши, разумеется, ни дружескими, ни родственными не были последние годы, но взаимное молчание проистекало из каких-то других причин. Просто не обнаруживалось тем для разговора, и отлаженность быта не способствовала их возникновению. Действительно, как бы это выглядело, когда бы я попробовал с ней обсудить принципы древнеиндийской эстетики в творчестве Сэлинджера. Она бы решила, что я сошел с ума, и уж во всяком случае это не доставило бы ей удовольствия. Меня никогда не интересовало ее мнение ни по одному сколько-нибудь отвлеченному вопросу. В ней же абсолютно отсутствовала автоматическая женская болтливость, не разбирающая, кто является слушателем — человек, собака или шкаф. Если разобраться, то при целом ряде положительных качеств — не сплетница, не хамка, умеет молчать о своих болезнях (правда, для этого рода жалоб у нее неблагоприятный фон), — так вот, при наборе всех этих качеств она была обречена на неудачную судьбу. У нее, надо думать, начисто отсутствовало чувство реальности или же присутствовала огромная переоценка себя. При своей кряжистой, без плавных обводов, свойственных ее полу, фигуре, при массивном квадратном подбородке, слишком охотно обнажающейся при каждой улыбке верхней челюсти, при жиденьких пегих волосах и при довесочке в виде полиомиелитического племянника она была невероятно требовательна к мужчинам, ее устраивал только один вариант — любовь до гроба. Матвей Иваныч был, если мне не изменяет память, единственным и неповторимым. Смешно подумать, но именно этот нечистоплотный мерзавец возбудил в ней страсть, потопившую даже ее незыблемые нравственные принципы, не позволявшие ей, кстати, на протяжении всех этих лет избавиться каким-нибудь пристойным способом от столь обременительной обузы, какой являлся я.
Убежден, что и на стороне, на чужой жилплощади у нее также не было никаких романтических или физиологических приключений. Варвара неговорлива, но при этом и не скрытна. Любое мало-мальски значительное возмущение на серой поверхности ее эмоционального образа я бы заметил, а выработавшейся способностью интерпретировать даже микроскопические факты и события и улавливать неуловимые ассоциации фактов и событий я бы легко и сразу вычислил бы Варвариного дружка.
Во время этих моих размышлений она проделала со мной обычные манипуляции и, оставив облегченного меня, ушла «к себе». Открыла гардероб и начала шелестеть там какими-то бумажками. Странно ведь, но, живя всего в двух шагах от этого гардероба, я никогда не узнаю, чем именно она там шелестит, граница на замке. Отдает ли Варвара себе отчет в этом своем чувстве безопасности? Все, что расположено на высоте более полутора метров над полом, мне недоступно. И еще одна мысль всегда возникала у меня, когда она старалась что-нибудь прочесть или шуршала бумагой, как вот сейчас: я вспоминал о ее близорукости, особенно нелепой при выбранной тетушкой профессии. Чувство физического превосходства, редкий гость, посещало меня в такие моменты. Уж с чем-чем, а с глазами у меня все было в порядке, несмотря на бесконечное чтение в лежачем положении.
В этот момент приоткрылась дверь и мелькнуло личико Мариночки. «Начинается», — мысленно прошептал себе я и опять испытал прилив приятного волнения. Молодец, урод! По всем моим расчетам выходило, что именно Мариночка не выдержит первая и захочет узнать, почему это следователи провели у явно ни в чем не виноватого калеки втрое больше времени, чем у любого здорового жителя квартиры. Этот вопрос очень даже ее должен занимать на фоне ее собственного беспокойства. А как еще должен себя чувствовать человек, не посмевший рассказать всю правду следователям, ведущим дело об убийстве?
При Варваре она, конечно, разговаривать не захотела. Да у нее, я думаю, и нет твердого плана беседы, ей просто нестерпимо хочется поговорить, а о чем, она и сама не знает. Чем туманнее чувство вины, тем оно, если так можно выразиться, продуктивнее. В некотором роде.
Решила переждать, тихонечко на цыпочках, в мягких тапочках — в ее положении человек инстинктивно надевает мягкую обувь, чтобы создавать поменьше шума, — прокралась в сторону кухни.
Она знает, что Варвара ее не любит. Для справедливой Варвары Мариночка — типичный случай ненаказанного преступления: нарушила все правила благопристойности, спит с мужиками, водку хлещет, и никто не догадается выселить ее из Москвы.
Затрепыхалась вскрываемая снаружи общая дверь. Мне продолжает везти. Явилась Фира, у нее свой, неповторимый почерк возвращения домой. Уж не знаю, что она там делает с замком, но вся наша тяжеленная двухстворчатая дверка трепещет, как осина на ветру. Тише всех орудует при проникновении в квартиру Платон Сергеич. Застарелая привычка диссидента и развратника. И подпольную литературу, и поэтически настроенную шлюшку необходимо доставлять тайно. Матвей Иваныч обращался с дверью, как с бутылкой пива, она подчинялась одному его небрежному движению и, как мне воображалось, выпускала даже характерный дымок. Мариночка при возвращении напоминала литератора, она, может быть, и не отдавала себе в этом отчета, но в этот момент из расплывчатого лимитского бесправия концентрировалось нестерпимое желание