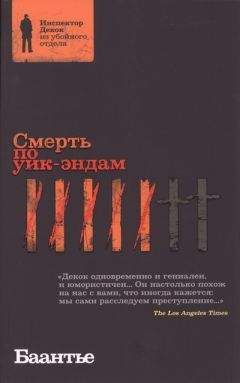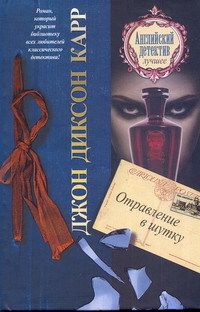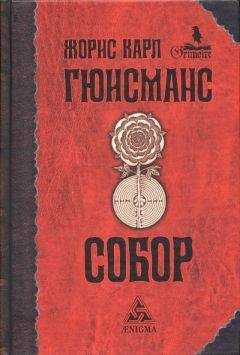— Послушай, Джинни. Надо взять себя в руки. Сними пальто, выкури сигарету. На тебе лица нет.
— Посмотрела бы я на тебя, — сердито отозвалась Джинни, — если бы ты пожил в этом доме. Ну да ладно.
Она вздохнула и скинула галоши, сняла пальто, а шарф бросила на спинку кресла. Меж бровей у нее обозначилась печальная складка, а в глазах появилось лукавое выражение. Она посмотрела на меня, медленно постукивая туфлей о ножку кресла, и сказала:
— Кстати, я, по-моему, даже не поздоровалась. И это после такой долгой разлуки. Ну ничего, я уже пришла в себя. Дай мне сигарету. Ты повзрослел.
— И ты тоже. И ты очень хороша собой.
Возникла пауза. Вирджиния извлекла сигарету из моего портсигара и, пристально поглядев на меня, произнесла:
— Я рада слышать это от тебя. Но я сыта по горло свиданиями в машинах с недоумками, которые сообщают мне, как отлично они преуспевают в торговле недвижимостью и как скоро они надеются… Благодарю покорно! — Она закурила сигарету и энергично выпустила клуб дыма. — Я имею в виду, как скоро они надеются заработать столько-то на этом и столько-то на том. Ну что ж, пусть зарабатывают на здоровье. Но при чем тут я? Меня это не волнует.
— Ты хочешь сказать, что сегодня тебе как раз пришлось такое выслушать?
— А! Не будем об этом. Только вот я хотела бы знать: неужели мужчины живут в убеждении, что женщинам так интересны их деловые подвиги?
— Ну а если женщина влюблена?
— А! Это совсем другое дело. Их интересует личность. Они будут думать о том, как неустрашимо их любимый покупает дома, продает земельные участки и как доблестно он играет на бирже недвижимости, если, конечно, таковая имеется. — Джинни нахмурила лоб и проговорила: — Для женщины главное — это человек. Вот предположим — это только гипотеза, учти, — что я влюбилась в каменщика. Ты меня понимаешь? Так вот, я, конечно, часами бы завороженно слушала его рассуждения о качестве и способах кирпичной кладки, но представляла бы его, моего любимого, как он орудует мастерком…
Джинни явно пришла в себя. Глядя в ее зеленые глаза, делавшиеся бездонно-серьезными, когда что-то беспокоило их хозяйку, и в которых постоянно чувствовалось легкое удивление перед какой-то неведомой загадкой, я понял, до чего же я рад встрече с Вирджинией Куэйл. Она была одновременно и незнакомой, и старой приятельницей. Говоря с ней, я испытал трепет возбуждения от общения с новой женщиной и умиротворение от встречи с хорошей знакомой. Когда-то мы любили гулять по аллее, обсаженной ивами, серебристо-зелеными в лунном свете. Мы проходили через арочный мост, под которым журчала, падая, вода, и любовались звездочкой, видневшейся в проеме между деревьями. Как загадочно-таинственно шумела вода вечерами, какою прохладой веяло от ив! Мы начинали с шуток, а заканчивали серьезными философскими беседами, тянувшимися допоздна.
— О чем ты задумался? — спросила Джинни.
Я вернулся мыслями обратно в унылое настоящее.
— Об этом доме. О том, как странно вели себя все сегодня. Безумный спектакль.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Ну вот, например, ты слышала о чем-то белом, бегающем по шкафу в буфетной?
Наш хрупкий союз рухнул, разлетелся вдребезги. Угасла звездочка из прошлого, освещавшая нечто общее, понятное лишь нам двоим. Оставалось лишь невысказанное вслух слово «убийство». Джинни ахнула, затем разразилась истерическим смехом.
— Значит, все всплыло? Ты знаешь мрачную тайну, Джефф? Ну, это просто прелесть.
Я не был готов к такому стремительному крушению установившейся было общности. Смех перешел в кашель. Вирджиния неудачно затянулась сигаретой.
— Ты знаешь об этом, Джинни?
— Знаю об этом? Боже, еще бы мне не знать! С этого-то все и началось. — Она метнула на меня яростный взгляд. — Из-за этого-то мама впала в такую меланхолию, что почти утратила дар речи, а отец и вовсе потерял голову.
— Но что это?
— Что? Я не знаю, — отозвалась Джинни и, фыркнув, добавила: — Он говорит, что это рука мраморной статуи.
— По крайней мере, — быстро добавила Джинни, — я знаю, что он так думает. Но он помалкивает об этом. Лучше бы уж не таил в себе такую тяжесть. — Увидев, что я смотрю на статую Калигулы, Джинни кивнула и энергично продолжила: — Да, я знаю, это выглядит каким-то безумием. Я знаю, что он немного помешался, но нам-то от этого не легче. Ему мерещится рука, которая подкрадывается к нему по ночам, но страдаем-то от этого мы. Мы знаем, что это его больное воображение, но все равно, когда он с воплями просыпается ночью…
— Джинни, — перебил я ее срывающимся голосом, — а ты уверена, что это больное воображение?
Мне показалось, что комната вдруг сделалась огромной, что самый легкий шепот разносится по ней гулким эхом, а тиканье часов доносится из пропасти. Или, наоборот, Джинни вдруг как-то съежилась, уменьшилась. Только глаза остались огромными.
— Дело в том, — продолжал я, — что я узнал об этом не от твоего отца. Мне рассказала об этом Мери.
— Я… я думаю об этом… да, думала… — Она говорила странным тоном, словно во сне, и пристально смотрела на свою сигарету. — Но тогда тем хуже…
— Тем хуже?
— Просто, если все эти годы он действительно видел это, тогда, похоже, кто-то из домашних жестоко издевается над ним. Кто-то постоянно пугает его. И он в это верит. Это куда хуже, чем если бы все это ему просто мерещилось.
В ее голосе звучали интонации девочки, отвечающей на вопросы в классной комнате. Темные волосы лезли ей в глаза, Джинни откинула пряди все в той же сомнамбулической манере.
— Конечно, Джефф, мы не верим ни в какие потусторонние силы. И я готова поверить, что отец и впрямь все это видит, что это не плод его воображения. Но это же ужасно. Ужасно знать, что среди тех, с кем ты вместе живешь, ешь и пьешь, находится человек, который регулярно, систематически, изо дня в день, вернее, из ночи в ночь пугает твоего отца. Нет, так дело не пойдет. Надо звать на помощь здравый смысл.
Я сказал:
— Послушай, будь же благоразумной. Твой отец самый серьезный, самый практичный человек в мире. Он не из тех, кто пугается темноты. С какой же стати ему…
— Не знаю, — удрученно отозвалась Джинни. — Я просто не знаю…
— Ну, так что же делать?
— Вот видишь! Не будем об этом спорить, Джефф, — сказала она глухим голосом. — Он стал таким с тех пор, как Том ушел из дому. — На лбу снова появилась морщина, глаза Джинни как бы устремились внутрь. — Можно было бы заподозрить во всем проделки Тома. Только все знают, что Том тут ни при чем. Он далеко.
— Расскажи мне об этом поподробнее.
— Ну хорошо… Может, кто-нибудь…
Отчаянным движением руки Джинни бросила сигарету через комнату в сторону камина.
— Помнишь, как мы тут жили? Мы делали что хотели, а папа был слишком занят своей работой, своими книгами и не вмешивался. Да и мама тоже нам не мешала — помнишь? Она смотрела на нас с улыбкой. Она по-настоящему любила только Тома. Она всегда называла его «мой маленький». Его это страшно унижало. Собственно, всю кашу заварил как раз он. Ты ведь не общался с ним в те дни, правильно? Я имею в виду те дни, когда мы начали думать и гадать, что будем делать, когда окончим колледжи.
Я покачал головой, а Джинни продолжала:
— Он всегда был сущим чертенком. А потом все стало еще хуже.
Да, я помнил луну, туманную дымку над деревьями, серебряную воду в бассейне. Крики, шум, смех. Кларисса пригласила в дом какую-то футбольную звезду. Как же возненавидел гостя Том! Он ненавидел всех спортсменов, потому что сам хотел быть спортсменом, но у него ничего не получалось. Я помню, как он сидел у края бассейна в мокрых купальных трусах, обхватив руками колени. Вдруг всплеск, серебряная гладь бассейна треснула, как зеркало, — Кларисса и ее гость прыгнули в воду и поплыли, лихо вспенивая воду, ловя ртами воздух. Высокие тополя четко вырисовывались на залитом лунным светом небе. «Чертов осел!» — бурчал Том. Желтые и оранжевые японские фонарики мерцали, тихо покачиваясь на ветках деревьев. На веранде играла пластинка «Никто не солгал».
— У него был скверный язык, — задумчиво проговорила Джинни. — С раннего детства. Помнишь, у него была разбойничья пещера в каретном сарае. В общем, и тогда другие дети его ненавидели. А ты… ты потом уехал за границу… остался там надолго. Ну, а мы здесь прозябали. Мы танцевали, мы немножко выпивали… чтобы почувствовать себя раскованными… мы продолжали эти глупые романы, где несколько поцелуев заставляли тебя поверить, что это и есть любовь… Прозябали. Хорошее слово.
Она вдруг на глазах постарела, осунулась. Затем, помолчав, заговорила снова:
— Но у Тома в жизни был лишь один интерес. Помнишь?
— Он хотел стать актером?
— Да. Но в доме он оставался прежде всего потому, что ему нравилось противоречить папе. Папа хотел, чтобы Том стал юристом. Том терпеть не мог юриспруденцию. Они постоянно ссорились, хотя папа был уверен, что Том рано или поздно бросит эти свои шуточки… Даже тогда все было бы не так плохо, если бы Том не оскорблял папиных кумиров. Бут, Баррет и Ирвинг для него были сборищем халтурщиков, Шекспир писал чепуху, и так далее… Признаться, я не понимала, как все это серьезно, до того последнего вечера. Это было пять лет назад, во время пасхальных каникул — тогда еще была самая настоящая снежная вьюга. Я точно не знала, что произошло. Папа никогда не говорил об этом. Я была у себя наверху, одевалась — мне надо было уходить — и вдруг услышала, что в библиотеке идет страшный скандал. Крики доносились даже до моей комнаты. Судя по всему, папа ударил Тома. Когда я опрометью сбежала вниз, Том выскочил мне навстречу из библиотеки. Изо рта у него текла кровь. Он крикнул: «Я застрелю старого черта!» — и ринулся наверх за ружьем. Он получил три медали за меткую стрельбу. Мама была в слезах. Она кинулась к Тому на шею, потом обернулась и крикнула папе драматическим тоном: «Ты поднял руку на ребенка? Ты поднял руку на ребенка?» Папа был весь серый. Он стоял, опершись рукой на столик. Был такой крик, что просто ужас. В конце концов Том утихомирился, но отца он не простил и вскоре ушел из дому. Он собрал свои вещи в сумку и пошел. Мери обливалась слезами и говорила: «Не уходи, у нас ведь гости!» Но Кларисса сказала: «Оставьте его в покое. Если он хочет валять дурака, пусть валяет!» Мама буквально повисла на Томе, когда он двинулся к двери. Помню, как смешно он нахлобучил шляпу на глаза. Отец сидел на стуле, закрыв лицо руками, а Том на прощание сказал: «Я все тебе сообщил. Тебя навестят ночью, можешь в этом не сомневаться». Он вышел, закрыл за собой дверь и двинулся в город. Больше мы его не видели.