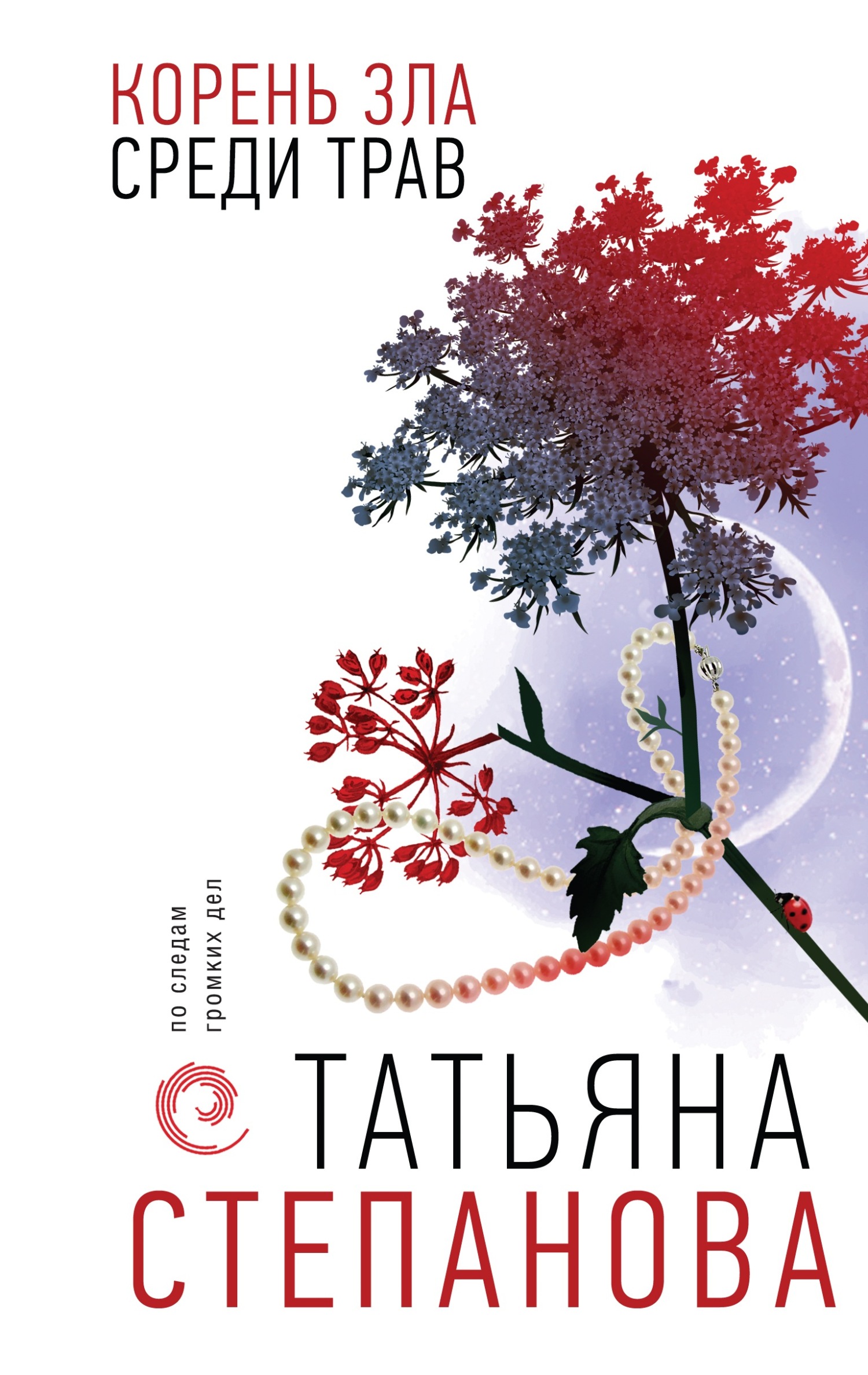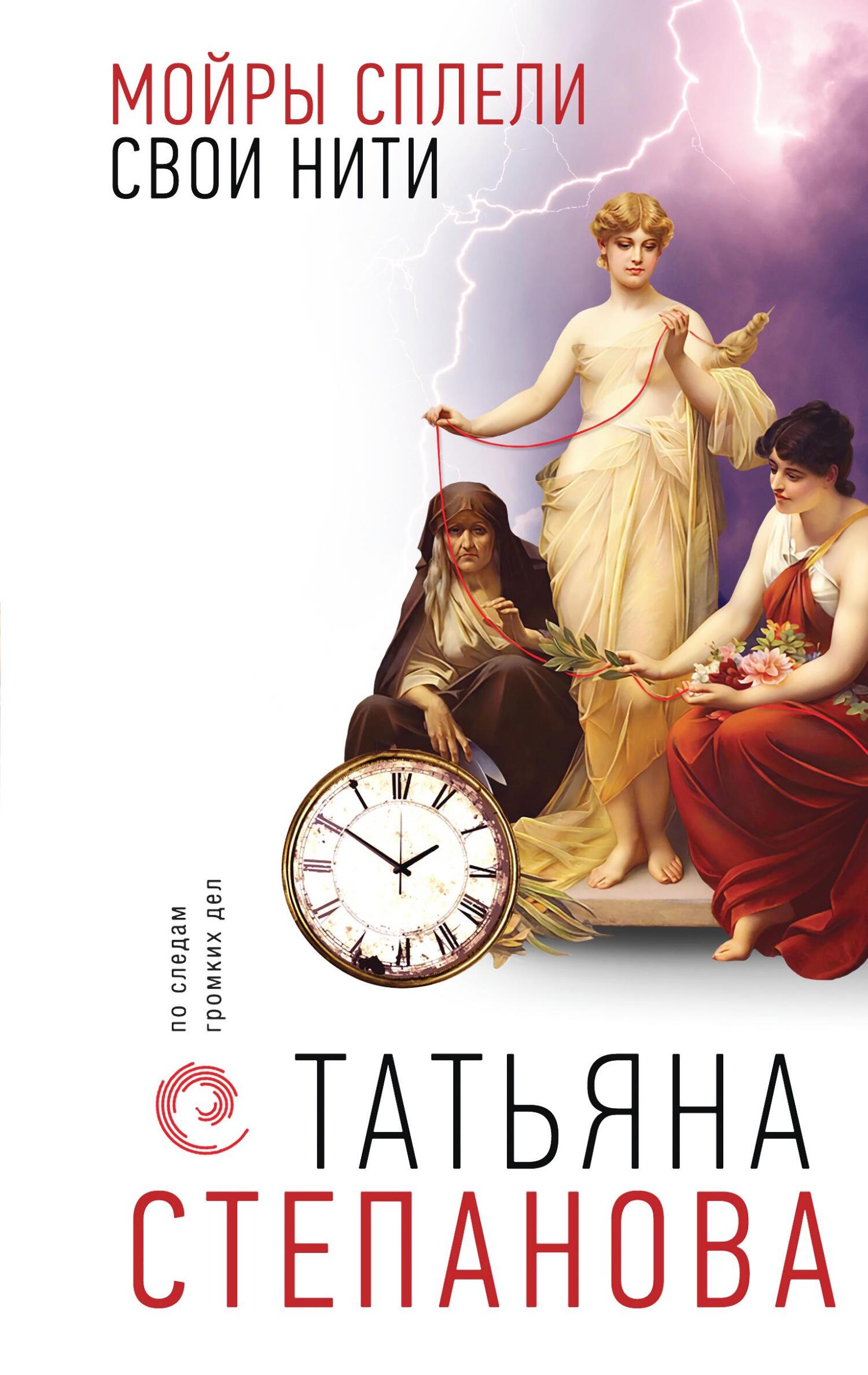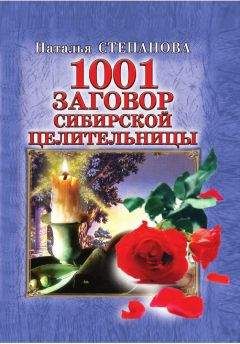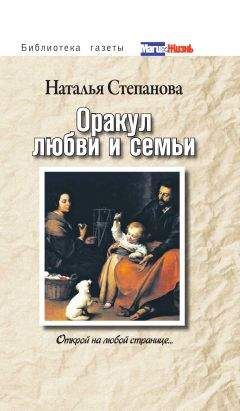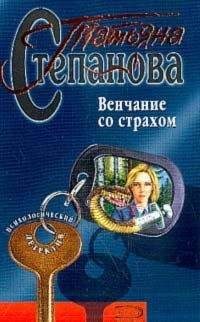А оттуда вы отправитесь в свое орловское имение к семье, как и планировали ранее. Наше совместное расследование закончено. Оно многому меня научило. Во многом изменило мою жизнь. Я узнала вас – и счастлива нашему знакомству, потому что такого умного, великодушного, храброго и доброго человека я не встречала раньше. Но… все завершилось. Я приехала в Россию служить гувернанткой, учить детей Юлии. И я должна вернуться теперь к своим прямым обязанностям. А вы хотели увидеть свою семью, поэтому после лечения вы отправитесь домой, куда вас звало раньше ваше сердце. И это будет правильным. Верным решением.
– То, что я женат, никогда не встало бы между нами, потому что… Клер, ну взгляните же на меня! Не отворачивайтесь! Мы уедем с вами! Далеко! За границу! Для меня нет невозможного, я сделаю все, что вы пожелаете. Я посвящу свою жизнь вам. Я уже живу только вами и ради вас! Клер, моя Клер… С вами я так же свободен, как и вы!
– Нет. И вы несвободны. И я.
Он молчал. Потом произнес.
– Это из-за Байрона, да? Все никак не можете его забыть?
Клер молчала. Она не хотела лгать ему. И не желала, чтобы он сейчас увидел лицо ее, выражение ее глаз – столь же отчаянное, беспомощное и горькое, как и у него.
– Я никогда не забуду наше с вами расследование, Гренни, – произнесла она после паузы. – И вы навсегда останетесь в моем сердце. Но сейчас мы должны расстаться.
Он повернулся и пошел прочь. Он твердо держался на ногах.
А Клер тихонько вернулась к себе в комнату.
Она закусила кулак свой так сильно, чтобы слуги не слышали, как она рыдает.
Когда вещи были собраны и погружены, когда они с Юлией Борисовной уже усаживались в дорожную карету, Евграф Комаровский вместе с Гамбсом и свитой медиков и офицеров тоже вышел из дома.
Возле кареты Юлии Борисовны стояла белошвейка, она их провожала. Комаровский медленно спустился по ступенькам, подошел к карете.
– Сударыня, – обратился он громко к белошвейке, чтобы слышали все. – От своего имени как командующего и от имени всего Корпуса внутренней стражи приношу вам свои искренние извинения за тот жестокий поступок, что был учинен над вами одним из моих офицеров. Он понес должное наказание. А вы, если возможно, не держите зла на корпус.
– Принимаю извинения, господин генерал. – Белошвейка выглядела ошарашенной, внезапно она всхлипнула. – Да что уж… да ладно… зажило все уж… Вас вон, бедного, тоже Темный как жестоко ранил… Вам спасибо, господин генерал, что с барышней не убоялись сил адских, избавили нашу округу от великой страшной беды, от Темного и его порождений!
– Это он сделал, чтобы вы запомнили его таким благородным, – заметила Юлия Борисовна со вздохом, когда они уже катили по аллее, оставив Комаровского, его свиту и его карету у барского дома. – Желает, чтобы последнее слово осталось за ним. Но хоть так, надеюсь, он что-то понял… Вы его научили, Клер. Должна вам признаться – я, как никогда, восхищаюсь вами, вашим характером, вашей силой сейчас, после вашего поступка. Он абсолютно правильный, можете не сомневаться. – Юлия Борисовна сжала руку молчаливой Клер. Другой рукой она извлекла из складок пышной юбки маленькую книжку в затертом переплете – «Женщина небольшого роста и пригожая, коей смелый проницательный взгляд могли пристыдить и жандарма». Это из его любовного романа, я нашла в библиотеке книжку с его дарственной моему Посникову – вот уж не знала, что мой обер-прокурор читал подобные вещи. И что наш жандарм такое мог написать! То, что мы пишем, порой возвращается к нам самим. Вы спасли ему жизнь, но вы эту жизнь у него фактически забираете сейчас с собой. Насколько я его знаю, он от вас, конечно, не отстанет. Но вы будьте стойки, Клер! Всегда помните – вы слишком разные люди с графом Евграфом Федотовичем. Сами можете убедиться – пока он был здесь приватно, он был просто Комаровский, но потом нагрянула свита, его подчиненные, солдаты, царские приказы и… Все вернулось туда, где оно и должно быть. И так будет всегда, Клер. Я рада, что он остался жив. Раз мой обожаемый Петя Каховский не убил его на Сенатской площади при восстании, значит, графу суждено жить долго… Клер, ну а перед вами такие широкие горизонты! Вы свободны как ветер. И я теперь свободна. Заберем детей сейчас, они так по вас соскучились, поедем в Петербург, потом в Италию, опять во Флоренцию… В Париж! Станем путешествовать, будем жить. – Юлия Борисовна уже улыбалась. – В России сейчас воцарилась реакция. Аресты, суды, доносы… Но Пушкин написал еще в ссылке: «Товарищ, верь: взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут»… То, что он написал, уже считается в России сейчас чуть ли не экстремизмом, и за это можно угодить за решетку. А что будет дальше? Мы с вами лишь слабые женщины, мы обе жестоко пострадали, окунувшись во всю эту неразбериху. И хватит с нас, а, Клер?
Клер по-прежнему хранила молчание. Она перелистывала книгу, что Юлия положила на сиденье.
Я вас люблю, обожаю… Божество мое, совершенство. Одно твое слово может сделать меня наисчастливейшим из смертных… [38] Она словно слышала, как он произносит это. Когда-то давно он все это написал в своем романе. Но роман – грезы, а жизнь… Что уготовила она им?
– Я продам Иславское, – объявила Юлия Борисовна. – После того как мы узнали, что здесь творилось, я больше не желаю сюда возвращаться. Я по-новому смотрю и на другие здешние места – Усово, Успенское, Ново-Огарево, Николину Гору, Барвиху, на весь наш знаменитый на всю Россию Одинцовский уезд. И ужас, и стыд в моем сердце. То, что годами происходило в Горках, все бесчинства, пытки, истязания, смерть людей, страх, кровь, слезы, боль… Все это было рядом с нами. Темный, как злой гений этого места, хотя с ним и покончили вы с графом, однако память… Память о всех событиях – она уже неизгладима. Они – все здешние обитатели Усова, Ново-Огарева, Успенского, Николиной Горы – существовали в тени Темного. А теперь будут жить в тени его памяти. А я больше не желаю так жить. Если поразмыслить, милая Клер, нет более страшного места, чем наш Одинцовский уезд, наш парадный имперский фасад… Наш рай…
Топот копыт. Карета внезапно остановилась.
Клер и Юлия Борисовна увидели денщика Вольдемара. Он галопом нагнал их на своей толстой деревенской кляче, лупя пятками в усеянные