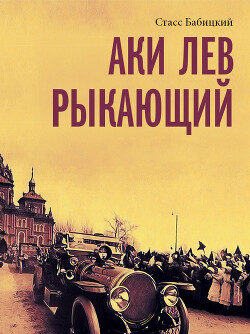XXIV
У Театральной площади дежурили лихачи. Они представляли особый класс, элиту частного извоза. Высший класс. Лаковые пролетки с откидным верхом. Дутые шины на колесах. Резвые кони с лентами в гривах.
Одевались щеголями, никаких тебе гороховых рубах и душегреек, ни, Боже упаси, стоптанных лаптей. Летом носили короткие сюртуки и фуражки, заломленные на левый бок, в холода надевали бекешу с меховой оторочкой. Подушку под армяк, подобно остальным, не привязывали, не было в том нужды – в лихаческих колясках и вознице полагалось мягкое место, а не голая лавка. Но главное отличие – эти молодчики брили бороды, оставляя завитые усы, как у Петра Великого на старых гравюрах. Спали, обычно, до полудня, после еще час прихорашивались. Рано не выезжали, да и какой в том смысл? Основные клиенты появлялись ввечеру, кататься приходилось всю ночь.
Слыли эти кучера балагурами, были в курсе городских сплетен и имели множество историй, чтобы скоротать дорогу. Но понимали, когда прикусить язык. Ловеласы целовались с чужими женами за закрытым пологом, не опасаясь огласки или, что их завезут не туда. Богатые пьяницы, выходя из ресторанов, падали в экипажи, словно перезрелые сливы и спокойно похрапывали. Знали, что усатый возница не полезет в карманы уснувшего гуляки, в отличие от иных извозчиков-потрошителей, ведь для лихача честное имя превыше всего.
За эту репутацию и цены назначали ломовые.
– Чертаново? – присвистнул долговяз в темно-бордовом рединготе. – Это, золотой мой, полсотни верст выйдет. Пять рублей и поехали.
– В одну сторону?
– А тебе, барин, и вертаться надобно? – встрял другой, перепоясанный алым кушаком. – Ежели с оборотом, десять целковых набегут.
– Многовато берете.
– В тех краях дороги дрянь, – сплюнул длинный. – Копыта лошадкам покалечишь, себе убыток выйдет.
Сыщик позвенел монетами в кармане, определяя текущий бюджет, но подошел третий кучер, в темно-синем сюртуке особого фасона «венский шик».
– У-у-у, воронье! – замахнулся он в притворном гневе. – Налетели. Закаркали. А ты не журись, добрый человек. Чичас свезу за семь рублей, туда и обратно. Садись в мою колымагу.
Поскромничал. Коляска добротная. Сиденья обиты черно-золотым жаккардом, как и диван на квартире Мармеладова. Хотя, – поерзал он, – диван пожестче будет. Лихач причмокнул губами и две пятнистые кобылы пошли спорым шагом, понемногу ускоряясь, переходя на бодрую рысцу.
– Зовут меня Ефимом, – обернулся он. – Фамилии не ведаю, подкидыш я. Но придумал подходящую – Быстряков. Чтобы никто не сумлевался, довезу с ветерком!
– Лучше помедленнее. Мимо ресторации проезжать будем, останови на минутку. Заморим червячка.
– Ближе к Гурину [90] заглянуть, вон уж окна на углу светятся. Но чичас все театралы к нему двинулись, столов свободных не сыскать. Да и за минуту поесть разве успеешь?
Лошади остановились у аляпистого подъезда. Швейцар в галунах распахнул дверь, из которой потянулись вкуснейшие запахи и разухабистая песня.
– Зря к парадному сунулся? – засмеялся сыщик. – Двигай на задки.
Лихач растерялся: зачем это приличному господину с черного входа в ресторан заходить?! Но объехал здание, как велено, встал у подслеповатых окошек. Мармеладов стукнул в одно из них и подбросил на ладони монетку. Грязно-белый колпак поваренка исчез в облаке пара. Вернулся малец с глиняной плошкой, опрокинул ее содержимое на ломоть ржаного хлеба и протянул в обмен на денежку.
– Бульонка! – ахнул кучер.
– Точно, она самая, – подтвердил сыщик, возвращаясь к коляске и откусывая на ходу. – Хочешь?
– Не-не-не! Знал бы ты, барин, из чего ее делают.
– Известно из чего. Собирают за день мясные объедки с тарелок, нарезают меленько, сдабривают перцем, лаврушкой, и после запекают в печи. Часа через два ресторация закроется, к этому окошку потянутся нищие да проходимцы уличные, но бульонка уж простынет к тому времени, Жевать ее холодную удовольствие небольшое. А так, – с пылу, с жару – объедение!
– Чудной ты, право, пассажир!
– Иные нос воротят, но ведь вкусно, сытно и стоит копейку. А чичас, – передразнил он лихача, – экономить надо, пока ты меня грабишь.
Быстряков заметно сконфузился и, чтобы прикрыть это, скорчил обиженную мину.
– Прям уж, грабишь.
– Целое представление с дружками разыграл. Они цену бесстыдно набивают, а тут ты выходишь… Благодетель! Не надо, не надо изображать оскорбленное достоинство. Вы тишком перемигивались, я заметил. Небось, по очереди клиентов ощипываете, жулики. Двое цену загибают, а третий везет. Сегодня ты, завтра – кушак или редингот.
– Лады, разумник, скину три рубля. Выйдет тебе честная цена за ночной извоз.
– Брось, уговор есть уговор. Только ты учти: доверия между нами нету, а я все каверзы наперед вижу, и ежели затеешь чего – берегись!
До Пречистенского бульвара ехали молча. Дома по обе стороны укладывались спать, зевая подворотнями и плотно зажмуривая ставни. В начале века здесь проживали дворяне – Нарышкины и Муравьевы. В двух особняках собирались декабристы, строили планы переустройства империи; в остальных устраивали балы и банкеты. А теперь вокруг сплошь доходные дома, где селится неблагонадежный сброд. Оттого и настроение этой местности сильно изменилось. Прохожие улюлюкали вслед экипажу, а буйный пьяница, – по виду из мещан, – запустил каменюкой, промахнулся и взвыл от досады. Кучер пробурчал забористое ругательство.
– Хорош дуться, ворчун, – ухмыльнулся сыщик, стряхивая хлебные крошки с одежды. – Расскажи-ка… Ты ведь семь рублей не от балды назвал, а педантично рассчитал. По какому признаку определяешь, сколько клиент готов заплатить?
– По шляпе, в основном.
Свернули на набережную. Вот, кстати, еще одно отличие: обычные извозчики перед поворотом чуток притормаживают, лихач же нахлестывает, чтоб коляску слегка занесло, а у седока перехватило дух. Ефим еще и свистнул, для веселья, потом растолковал:
– Ежели ты на цилиндр семи рублей не пожалел, то и на важную поездку не зажмешься. А она важная, коли на ночь глядя сорвался. С невестой тишком обвенчаться или купить чего выгодно, пока другие не спохватились. Горячее дельце! Вот мы выгоду и почуяли.
– А может я из театра возвращался в собственное имение?
– Ну, нет. Тамошние-то в курсе, что до