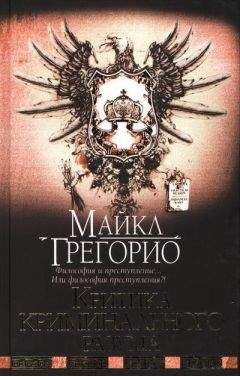Глава 35
Погода становилась все хуже и хуже, и тело Иммануила Канта дожидалось похорон в течение шестнадцати дней. Земля настолько промерзла, что для него не могли вырыть могилу. День за днем выставленное для прощания в Университетском храме Кенигсберга тело усыхало и сжималось на глазах. Оно все больше начинало напоминать скелет, как намекали местные газеты, а отцы города в отчаянии молили небеса о том, чтобы погода изменилась.
Вернувшись в Лотинген, я с неистовством накинулся на работу. Активный труд всегда был лучшим лекарством для всех моих проблем, но, как ни странно, я мало продвинулся в разрешении тех вопросов, что накопились за время моего отсутствия. Я часами сидел за столом в своем рабочем кабинете, тупо уставившись на повторяющийся узор на обоях, или же праздно перекладывал бумаги. Единственным утешением для меня была семья. Елена каждое мгновение моей жизни окружила любовью и заботой. И главной уловкой, которую она использовала, чтобы смягчить мою душевную боль, были наши дети. Она старалась, чтобы мы как можно чаще были вместе, гораздо чаще, чем я позволял себе раньше, до отъезда в Кенигсберг. Она очень быстро пресекла несдержанные восторги, которые дети продемонстрировали после моего длительного отсутствия. С необходимой твердостью она ставила предел неожиданно появившейся у них свободе в тех случаях, когда они грозили выйти из повиновения.
Однажды утром Елена ворвалась в мой кабинет со свежим номером «Кенигсбергише монатсшрифт» в руках.
— Как будто земля отказалась его принимать, — произнесла она, положив газету мне на стол.
В заголовке говорилось, что внезапно началась оттепель, и пошел сильный ливень. Панихида по профессору Канту состоится на следующий день в час пополудни. Я внимательно прочел статью, а затем повернулся к жене, чтобы прокомментировать прочитанное.
— Ты должен поехать в Кенигсберг, Ханно. Должен присутствовать при том, как его тело будут предавать земле, — сказала она мягко, но с такой решительностью, что у меня практически не осталось выбора. Елена говорила так, словно успокаивала одного из детей после болезненного падения.
Несмотря на то что я уже принял решение никогда больше не посещать Кенигсберг, ранним утром следующего дня, надев черный костюм и плащ, приколов новую черную шелковую ленту на шляпу, я уселся в почтовый дилижанс. Спутников у меня не оказалось, и я обрадовался тому, что мне не придется ни с кем вступать в разговоры, к которым я был вовсе не склонен. Я сидел в полном одиночестве, с тяжелым сердцем вспоминая свое последнее путешествие из Лотингена в Кенигсберг в компании Амадея Коха.
Дилижанс прибыл в полдень, и я сразу же направился в дом на Магистерштрассе, куда за день до того перенесли бренные останки профессора Канта. Узкую улицу запрудили толпы простых людей, пытавшихся отыскать удобное место для наблюдения за скорбной процессией. Кроме того, непрерывно продолжали прибывать также и те, кто знал философа достаточно близко, отчего тихий и мирный при жизни Канта уголок начал напоминать шумный сельский рынок.
Проходя через садовую калитку, я был подхвачен потоком пришедших попрощаться с покойным. На гребень этой волны меня подняла группа студентов в академических мантиях «Коллегиум Фредерицнанум». В гостиной на катафалке, окруженном венками из плюща и украшенном прихотливыми гирляндами из цветов и букетами, стоял роскошный дубовый гроб. Крышка гроба была прислонена к стене. Я снял шляпу, отдавая последнюю дань останкам великого философа, величественно покоившимся на возвышении. На меня взирал застывший лик Смерти с таинственной улыбкой на подкрашенных устах. Ни Смерть, ни бальзамировщик не смогли стереть ее.
— Все полностью в соответствии с его волей, — произнес рядом с моим ухом чей-то голос. Я повернулся, и герр Яхманн протянул мне руку в черной перчатке. — Вы покинули город в такой спешке, Стиффениис, — заметил он. — Я даже не надеялся, что увижу вас здесь сегодня.
— Я должен был приехать, — ответил я, и слова застряли у меня в горле — в этот момент гроб накрыли крышкой и плотник начал закреплять ее.
Мы молча наблюдали за тем, как шестеро студентов подняли гроб и понесли его из комнаты на улицу. Яхманн провел меня к первому ряду бесконечной колонны собравшихся людей, выстроившейся позади повозки черного цвета, запряженной четверкой лошадей. Гроб поместили на повозку, венки и гирлянды разложили вокруг, и траурный кортеж стал медленно двигаться вперед. Процессия змейкой вилась по улицам Кенигсберга, и повсюду ее встречали молчаливые толпы жителей города.
Университетская церковь была залита светом тысяч свечей. Слышались приглушенные звуки органа, игравшего торжественные отрывки из Букстехуде, приглашенные и представители городских властей занимали места на отведенных для них скамьях. Среди них были Иоганн Одум, фрау Мендельсон и доктор Джоаккини. Я сел на расстоянии нескольких рядов от них, и горе тяжелой волной сотрясло все мое естество. Не могу сказать, сколько времени я провел в таком состоянии, когда мое внимание привлекла женщина, сидевшая на скамье передо мной. Она стала поправлять черный шарф, и я узнал ее. Она оглянулась, и на мгновение наши взгляды встретились.
Это была фрау Лямпе.
Я не мог и предположить, что встречу ее на похоронах человека, которого она считала ответственным за все несчастья мужа. И что она здесь делает? Некоторое время я размышлял над своим вопросом, но, так и не найдя на него ответа, вернулся к слушанию траурной службы, каковая должна была продолжаться еще два часа. Герр Яхманн был одним из множества выступавших, изощрявшихся в бесчисленных банальностях, которые столь же неизбежны на церемонии похорон, как и сама Смерть. И когда наконец все было сказано, список выступавших исчерпан, вперед вышли носильщики, гроб был водружен на юные плечи, и его медленно вынесли из церкви.
Я проследовал в проход, когда путь мне преградила фрау Лямпе, пристально уставившаяся на меня взглядом своих черных глаз.
— Признаться, я рассчитывала найти вас здесь, сударь, — сказала она. — Если бы не это, я бы, конечно, не пришла. Вы бы, надеюсь, не осудили меня за нежелание проявлять какое-либо уважение к созданию, лежащему в том гробу?
Я попытался ее обойти, но она не сдвинулась с места.
— У меня есть нечто такое, что вам было бы интересно увидеть, — шепнула она резко, вынимая из-под плаща изящный портфельчик.
— Чем бы вы там ни располагали, — ответил я холодно, — передайте все местной полиции. Мои функции здесь уже закончились.
Она повернулась, бросила взгляд в сторону алтаря, а затем вновь посмотрела на меня.
— Вы были его другом, — произнесла она и сжала губы. — Я полагаю, то, что здесь находится, должно принадлежать вам, сударь.
Я взглянул на то, что она протягивала мне.
— Я нашла это несколько дней назад. Книгу, над которой они вместе работали.
Мгновение я внимательно всматривался в лицо фрау Лямпе. Глупой ее нельзя было назвать ни при каких обстоятельствах. Неужели ей в самом деле не было ничего известно о том, чем занимался ее супруг? И у нее никогда не появлялось никаких подозрений?
— Я отняла у вас слишком много времени, — произнесла она поспешно.
Вложив сверток мне в руку, фрау Лямпе повернулась и выбежала из церкви.
Я прижал неожиданный дар к груди с тем же чувством жгучего волнения, которое испытал, когда кормилица протянула мне моего первенца. Философское завещание Иммануила Канта… Он сам намекал на то, что оно должно изменить весь ход развития нравственной философии. Упав на колени, я возблагодарил Всемогущего Господа за Его безграничную щедрость. Я был избран в качестве Его инструмента прославления несравненного величия покойного Иммануила Канта.
Я выбежал из церкви и стал пробиваться сквозь толпу во дворе. Я не задумываясь грубо расталкивал оказавшихся у меня на пути людей. Было холодно, а я вспотел от возбуждения. Герр Яхманн окликнул меня, но я смотрел в противоположную сторону, пытаясь бороться с напором народа, валившего с улицы к месту захоронения. И все это время прижимал к сердцу бесценный сверток, подобно Моисею, несущему священные скрижали с горы Синай.
Оказавшись среди относительного спокойствия улицы, я остановился отдышаться. Где я могу прочесть полученный мною манускрипт, не опасаясь помех? На мгновение кровь застыла у меня в жилах от ощущения овладевшей мною жадности. Моим единственным желанием было остаться наедине с рукописью Канта.
Почему, во имя всего святого, я сразу не отправился к герру Яхманну и к другим ближайшим друзьям профессора Канта и не сообщил им эту чудесную новость? Почему бежал от них, словно боясь, что они отнимут у меня бесценное сокровище, которое мне вручила фрау Лямпе? Истина заключалась в том, что у меня не было желания делиться последними неопубликованными мыслями философа с кем бы то ни было. По какой-то неясной причине я чувствовал, что Кант предназначал текст, продиктованный Мартину Лямпе, мне и никому больше. Своей самонадеянностью я ничуть не уступал старому лакею.