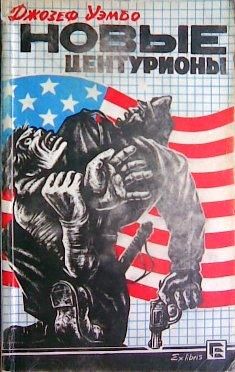– Давно пора. Уже все сроки вышли. Жду приказа со дня на день.
– И куда же ты хочешь?
– Все равно.
– Опять в негритянские кварталы?
– Нет, не мешало бы для разнообразия сменить обстановку. Может, подамся немного севернее.
– А я рад, что попал сюда. Здесь быстро всему научишься, – сказал Крейг.
– Лучше поспешай не торопясь, – сказал Гус и сбавил скорость, медленно катя свой «плимут» к мигнувшему красным светофору. Он начинал ощущать усталость от долгого сидения за рулем. Вечер был на удивление тих, и после нескольких часов вялого и неспешного патрулирования полицейские со скуки забавлялись одной лишь ездой, как забавляется старой игрушкой ребенок. Не стоило им ужинать так рано, подумал Гус. Гадай теперь, чем заполнить остаток ночи.
– Ты когда-нибудь попадал в перестрелку? – спросил Крейг.
– Нет.
– А как насчет лихой да отчаянной драчки?
– Не приходилось, – ответил Гус. – Так, ничего особенного. Несколько задиристых ублюдков, но возню с ними настоящей переделкой не назовешь.
– Выходит, тебе повезло.
– Выходит, что так, – сказал Гус, и на какую-то секунду на него вновь накатило прежнее чувство. Только он уже научился подчинять его своей воле.
Беспочвенный страх теперь посещал его редко. И если ему все же делалось страшно, то всякий раз на это имелись веские причины. Как-то во время ночного дежурства его напарник – им был тогда один старожил-полицейский – рассказал ему, что за двадцать три года службы ему так и не довелось участвовать в сколько-нибудь серьезных заварушках или палить из револьвера, долг ему этого так и не повелел, и даже не доводилось перекинуться шепотком со смертью, если не считать нескольких дорожно-транспортных происшествий, а потому он вовсе не думает, что полицейскому так уж необходимо ввязываться во все эти неприятности, да никто и не ввяжется, покуда сам того сильно не пожелает. Такое суждение не могло не утешить, только вот до седых волос тот полицейский дослужился не где-нибудь, а в Вест-вэлли да в Ван-найсском округе, но и оттуда его уволили, так что в Университетском дивизионе, вынужденный подчиниться дисциплинарному переводу, он успел проработать лишь несколько месяцев. И все же, думал Гус, хоть оба эти года мне удавалось избегать опасностей и стычек, я боюсь. Но разве страху моего не поубавилось? Синий мундир да значок на груди, бесконечная обязанность принимать решения и разрешать людские проблемы (когда он даже знать не знал, как это делается, да только в полночь на улице не было больше никого, кто бы мог лучше его с этим справиться, – и он брал на себя смелость решать за других, и случалось, что от его решений зависела чья-то жизнь), да, решения и проблемы, и синий мундир, и значок – все это придало ему уверенности, о которой он даже и не мечтал, даже не думал никогда, что способен на такую уверенность в себе. И пусть он до конца не избавился от сомнений, жизнь его сильно переменилась и он был, как никогда, счастлив.
Он был бы еще счастливее, если бы ему удалось перевестись в тихий белый район и не мучиться комплексом вины. Но если он убедит себя, что достаточно храбр – а больше ему нечего себе доказывать, – то почему бы не перевестись тогда для полного счастья в Хайленд-парк, поближе к дому?
Только все это вздор. Если работа в полиции чему-то его и научила, то, пожалуй, именно тому, что мечты о счастье – занятие для детей и дураков.
Лучше уж взирать на мир и самого себя с легким презрением.
Он вспомнил о раздавшихся бедрах Вики, о том, как лишние двадцать фунтов могут изменить даже такую хорошенькую девушку, изменить настолько, что он затруднялся сказать, почему так редко стремится к физической близости с ней – оттого ли, что она боится забеременеть, или просто потому, что она все сильней утрачивает былую привлекательность. И дело не в том, что некогда холеное тело, будто созданное для постели, стало грузным и массивным. Распадается личность – вот в чем вся штука! И виноваты здесь лишь опрометчивость юности, поторопившей с женитьбой, да трое детей. Это все оказалось не под силу девчонке, привыкшей висеть на чьей-то шее, а теперь вот захомутавшей его собственную.
Гус подумал, что если у малышки не прошла простуда, то сегодня ночью заснуть не удастся, и почувствовал, как в нем закипает благородный гнев.
Но он прекрасно знал, что сердиться на Вики не имеет никакого права.
Она была самой хорошенькой девушкой из тех, кто когда-либо выказывал к нему хоть какой-то интерес. К тому же сам он отнюдь не был тем трофеем, завоевав который следовало бы особо гордиться. Взглянув на себя в зеркальце заднего обзора, он убедился, что соломенные волосы совсем поредели: он облысеет задолго до своих тридцати. Вон и морщинки уже играют у глаз. Он посмеялся над собой за то, что смеет сетовать на Викину полноту. Но ведь не в том дело, подумал он. Не в полноте. Дело в ней самой. В Вики.
– Тебе не кажется, Гус, что полицейские имеют больше шансов понять истоки преступности, чем, скажем, пенологи, или типы, что занимаются заключенными, или вообще все ученые-бихевиористы, вместе взятые?
– О Господи, – засмеялся Гус. – Ну и вопросик! Это что, из какого-нибудь теста?
– Собственно говоря, так и есть, – ответил Крейг. – Я хожу на курсы психологии в Лонг-Биче, и мой профессор как раз специализируется по криминологии. Он считает, что полицейские довольно самонадеянны, свято чтут свой клан, потому и варятся в собственном соку и не доверяют никому из специалистов, но тем не менее только они и способны по-настоящему понять суть преступления.
– Справедливая оценка, – сказал Гус. Он напомнил самому себе, что это последний семестр, когда он может позволить себе бездельничать, иначе окончательно растеряет навыки учебы. Если он все же захочет получить диплом, для начала ему наверняка придется снова сесть за парту.
– Так ты согласен с ней? – спросил Крейг.
– Пожалуй, да.
– Сам я недавно как из академии, но не думаю, что полицейские так уж привержены своему клану. Я не расстался ни с кем из старых друзей.
– Я тоже, – сказал Гус. – Но через годик и ты почувствуешь, что стал относиться к ним чуточку иначе. Ты поймешь, что им многое невдомек. Так же, впрочем, как и криминологам. Полиция – это место, где видишь всю преступность целиком, всю ее сотню процентов. Видишь преступников настоящих и нет. Видишь свидетельства преступлений и их свидетелей, видишь совершение преступления или момент сразу после него. Видишь преступников, совершающих его у тебя на глазах, или видишь их минутой позже. И видишь жертв, случается, прежде еще, чем они ими стали, и знаешь при этом, что станут ими они непременно, и видишь преступников до того, как они ими сделались, и знаешь, что им уж суждено стать преступниками. Но сделать тут ты ничегошеньки не можешь, хоть и знаешь из собственного опыта, что так оно с ними и будет. Знаешь. Скажи об этом своему профессору, и он наверняка решит, что тебе самому нужен психолог или какой другой специалист по мозгам. Твой профессор видит людей в комнате для тестов и под замком, а мнит себе, что разглядел насквозь преступников – тех несчастных и малопривлекательных неудачников, о которых он так печется. Но вот о чем он даже не догадывается, твой профессор, так это о том, что многие тысячи удачливых победителей, гуляющих на свободе, замешаны в преступлении ничуть не меньше проигравших неудачников. Да знай он, что такое истинная преступность и как широко она распространена, он бы вмиг растерял добрую половину своего самодовольства. Пусть полицейские и снобы, да только не самодовольные болваны, потому что такое знание не приносит успокоения. Оно пугает.
– При мне ты никогда не был столь разговорчив, Гус, – сказал Крейг, глядя на напарника с каким-то новым интересом, а того будто что-то толкало выговориться, ведь с той поры, как уволился Кильвинский, ему не часто доводилось беседовать на эти темы. Как бы то ни было, именно он, Кильвинский, научил его всему этому, ну а после ему оставалось лишь убедиться в его правоте на своем опыте.
– Трудно преувеличить близость наших контактов с людьми, – сказал Гус.
– Мы наблюдаем их тогда, когда не наблюдает их никто другой. Мы видим, как они рождаются и умирают, как изменяют женам и как напиваются. – Теперь Гус знал: за него говорит сам Кильвинский, и говорит словами Кильвинского, и словно бы он снова рядом, и снова рядом голос его, и слушать его так приятно... – Мы видим их тогда, когда они обирают ближних, и когда теряют стыд, и когда им очень стыдно, и узнаем тайны, о которых не ведают их собственные мужья или собственные жены, тайны, которые прячут они даже от самих себя, и, черт возьми, когда тебе становятся известны все эти вещи про людей, что не лежат в больницах, что не страдают в психиатрических лечебницах, что не сидят в тюрьме, что даже на учете нигде не состоят, про людей, которых ежедневно видишь на свободе, преспокойненько занимающихся своими делами, – чего ж еще! – ты знаешь их. По-настоящему. И конечно, тогда ты замыкаешься в своем кругу, общаясь лишь с теми, кто тоже знает.