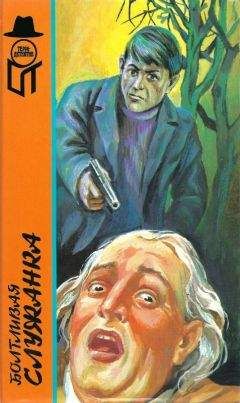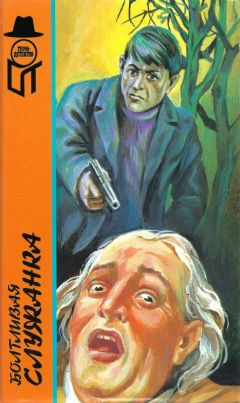— Еще как понимаю! Знали бы вы, как я вас понимаю!
— В мире есть и другие места помимо музеев! Не знаю, ну там парки, скверы…
— Ну конечно же! Вы совершенно правы! Это куда веселее! И почему вы раньше не предложили? Всякий раз, когда у вас появятся мысли по усовершенствованию наших встреч, наподобие этой, высказывайте их без колебаний. Итак, по-прежнему послезавтра, в четыре часа пополудни, но в Люксембургском саду. Перед Кукольным театром.
Она дала отбой. Сиберг бросил дьявольскую трубку на адский рычаг, вырвал из машинки страницу 205, на которой, с удобством устроившись на тончайших листах бумаги, вдобавок проложенных копиркой, треклятый Афанасий ожидал в экстазе, скомкал ее и швырнул в корзину для бумаг, тут же опрокинул корзину, потом разодрал записную книжку, сломал шариковую ручку, распотрошил фломастер, раздавил вечное перо, разодрал свой бювар, истоптал свой коврик, бухнул кулаком в стол, изорвал свой «Малый Ларусс» в мелкие клочки и рассеял их по ветру[26], и наконец осыпал ударами бока пишущей машинки, которая, потеряв терпение, тотчас отказала, даже не подумав подать, как это предусмотрено трудовым законодательством, заблаговременного письменного предупреждения.
Запыхавшийся, с разламывающейся от ненависти к Гадюке и от денежных забот головой, он не услыхал стука в дверь и не пригласил войти, вследствие чего с газетой под мышкой вошла Жоржетта.
— Смотри-ка! — удивилась она, — у вас был сквозняк?
Она положила газету на письменный стол посреди обломков ручек и клочков «Лapycca».
— Вот газета, — объяснила она, указывая на газету. — Я так и попросила: любую. И мне ее дали.
— Спасибо, — отозвался Сиберг, усиленно думая: «Где взять денег?»
— Так я могу убирать в кабинете?
— А? Нет!
Деньги… деньги…
— А уборка бы тут не помешала! — заметила Жоржетта, обозревая поле битвы. — Вы не читаете газету?
— А? Нет!
Деньги… деньги…
— Тогда, может, я ее почитаю — мне все равно нечего делать.
— А? Да!
Деньги… деньги…
Жоржетта пренебрегла всевозможными геноцидами, массовой резней, должностными преступлениями, заговорами, государственными переворотами и покушениями, которыми полнились дипломатические страницы этого издания, а сразу погрузилась в хронику происшествий.
Тем временем Сиберг суммировал: содержание Гадюки номер три, платежи, связанные с приобретением квартиры и современной обстановки, не говоря уже о ежегодных отчислениях в Фонд Дополнительной Пенсии для Религиозных Авторов (ФДПРА), в Социально-Страховой Фонд Писателей, Перешедших в Католичество (ССФППК), в Фонд Медицинского Обеспечения Не Получающих Жалованья Болландистов (ФМОНПЖБ), в Фонд Обеспечения Старости Независимых Агиографов Парижского Региона (ФОСНАПР), и сравнивал результат с авансом, который ему уже согласилось выдать под Афанасия издательство Блюмштейна.
— Смотри-ка! Вот это интересно!
Это восклицание Жоржетты вывело Сиберга из приходно-расходных размышлений.
— А? Что? Что там интересного?
Жоржетта помахала газетой:
— Да вот этот снимок! Они говорят, это фото мужчины, который исчез!
— Действительно, очень интересно!
Деньги, деньги!
— Но я же видела этого мужчину! — возбужденно продолжала Жоржетта.
— Тем лучше для вас, — с отсутствующим видом проронил Сиберг. Про себя он обращался к Афанасию со спешной и горячей молитвой:
«Возможно, я был с вами резковат, но вы не были бы святым, если б не умели прощать! В этом деле мамочка рискует жизнью, бедняжка, а я — писательской карьерой!..»
— Смотри-ка! Вот это интересно!
Досадуя, что его перебили в столь возвышенном общении, — он прокричал:
— Ну, что там еще?
— В заметке пишут, что этот мужчина пропал в субботу утром! А я как раз и видела его в субботу утром! У того господина, к которому прихожу убирать по субботам: господина Летуара!..
«На мамочку вам, возможно, наплевать, — возобновил Сиберг свое обращение к Афанасию, — но если рухнет вся моя карьера, то не увидит света и ваше жизнеописание! Так что…»
— Смотри-ка! Вот это интересно!
— О-ля-ля! — в отчаянии воскликнул Сиберг.
Жоржетта истолковала этот возглас как приглашение поделиться подробностями:
— А в статье-то про господина Летуара даже не упоминают! Тут пишут, что никто, дескать, не видел того, другого господина с тех пор, как он вышел из дому…
— Выходит, вы видели не его, вот и все!
«…Так что из сострадания и в своих же собственных интересах, святейший Афанасий, помогите мне! Сделайте так, чтобы я нашел деньги!»
— Да нет же, это был точно он! Я прекрасно помню! Даже то, что, когда он пришел к господину Летуару, у него был очень недовольный вид, — я еще подумала, что добром промеж них дело не кончится!
— Добром не кончится? — навострил уши Сиберг.
— Ну, это просто так говорится. Самой убедиться в том, права я была или нет, мне не пришлось: господин Летуар сразу же услал меня за покупками. А когда я вернулась, тот господин уже ушел. Забыв свою шляпу!
— Смотри-ка! — воскликнул Сиберг. — Это интересно! И он не спохватился? Не вернулся за ней?
Жоржетта, прыснув, помотала головой:
— Вот же разиня, а? Когда я сказала про шляпу господину Летуару, он с досады едва лопату не выронил.
Сиберг замер на стуле:
— Лопату? Какую лопату?
— Ту, что была у него в руках, а то еще какую?
— И что же он делал с этой лопатой?
— Сажал у себя в саду картошку.
— Вы хотите сказать, что он лопатой сажал картошку?
— Да ничего я не хочу сказать — это он сказал мне, что посадил картошку! Он как раз заканчивал засыпать яму.
— Яму, — повторил Сиберг. — Какого размера?
— Нормального.
— Что значит — нормального? Длинную? Широкую? Припомните!
— Ну, длиной и шириной как… э-э… в рост нормального человека, вот! Этот господин Летуар живет один, вот я и подумала, что он посадил картошку на одного человека!
— Ну конечно! — пробормотал Сиберг.
— Но я все равно удивилась — ведь я впервые видела, чтобы он занимался огородничеством.
— Так значит, когда вы показали ему на шляпу, забытую гостем, он выглядел раздосадованным?
— Не то слово! Да еще наказал никому об этом госте не рассказывать. Как будто это в моих привычках — трепаться направо и налево о том, что творится у людей дома! Не-ет, мой девиз — «Держи язык за зубами!»
— Как вы правы, Жоржетта! — с жаром подхватил Сиберг. — «Слово, хранимое в себе, — твой раб, слово же высказанное — твой властелин», — говорил один китайский мудрец…
— Ах, эти китайцы! — всплеснула руками Жоржетта. — Я читала, что через десять лет их будет чертовски много!
— Тем более следует продолжать обо всем этом помалкивать!
— Я так и собираюсь!
— Ни слова! Никому! Раз уж этот господин… этот господин, как бишь его?
— Летуар.
— Раз уж этот господин Летуар… который живет… э-э… где, вы говорите?
— В Сен-Клу, дом двадцать девять по улице Бориса Виана.
— Раз уж этот господин Летуар, — повторил Сиберг, лихорадочно записывая что-то обломком шариковой ручки на обрывке бумаги, — который живет в Сен-Клу, в доме двадцать девять по улице Бориса Виана, попросил вас молчать, то у него на это, видимо, были свои причины.
— Ну разумеется! Частная жизнь людей — это святое!
— Совершенно верно. Так, ну хорошо, Жоржетта, вы свободны.
— Так мне не убирать кабинет?
— Нет. Не сегодня. У меня срочная работа…
— Тогда до следующего вторника, месье.
— До вторника. Эй, не прихватите мою газету! Дайте-ка ее сюда.
Когда Жоржетта ушла, Сиберг со все нарастающим возбуждением прочел заметку в газете. Потом он откинулся на спинку кресла, развел руками и устремил восхищенный взгляд в потолок.
— Чудо! — прошептал он. — Афанасий, благодарю вас! Вот это оперативность!
Припарковавшись напротив дома номер 26, он притворился, будто читает газету. На самом деле он следил за входом в дом номер 29. Руки у него были влажные, а кишки то и дело схватывало спазмами.
Как человеку робкому и деликатному, насквозь проникнутому христианским гуманизмом, ему было не очень-то удобно требовать деньги у совершенно незнакомого господина под тем лишь предлогом, что тот убил другого господина. Это весьма дурно пахло.
Разумеется, операция осуществляется в некотором роде под покровительством одного из отцов Церкви. Разумеется, с убийцей можно особо не церемониться. Разумеется, не исключено даже, что провидение избрало тебя орудием искупления вины этого убийцы.
При условии, что он действительно убийца, что еще не доказано.
Если он не убийца, дело обернется катастрофой. Если же он убийца, дело примет очень тревожный оборот.