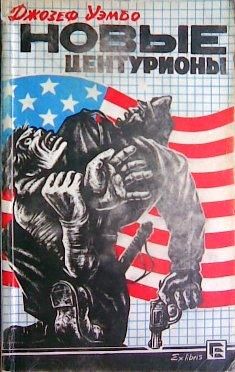Окно стоящего рядом автомобиля разлетелось вдребезги.
– А ну-ка, сволочь, покажись, – заорал молодой полицейский невидимому снайперу, затем развернулся спиной и медленно зашагал прочь. – Это кошмарный сон, – пробормотал он, взглянув на Роя. – Разве нет?
И тогда Рой увидел что-то уж и вовсе невероятное: молодой негр с густой бородой, в черном берете, из-под которого выбивались завитки волос, в шелковой майке, свирепо и воинственно настроенный парень, выступил из толпы в пятьдесят человек, и велел им отправляться домой, и сказал им, что полиция – это не их враги, и все такое, столь же дерзкое. Толпа двинулась на него и какую-то короткую минуту в бессознательном остервенении мутузила его ногами. Подоспевшим полицейским пришлось переносить бездыханное тело и под охраной укладывать в автомобиль.
Завыли сирены, и подъехали две машины «Скорой помощи» и одна полицейская, с шестью седоками внутри. Среди них Рой заметил сержанта. Он был молод, и его попытки навести порядок хотя бы среди подчиненных по большей части оказывались тщетными. На то, чтобы доставить убитого в морг-распределитель, а раненого – в госпиталь, ушел почти час. В эту пятницу бунт в Уоттсе разгулялся не на шутку.
Сержант приказал Рою арестовать раненого, того типа в красной рубашке.
В помощь Рою выделили двух полицейских. Они отвезли раненого в тюремную палату окружной больницы. На ветровом и заднем стекле их машины камни живого места не оставили. Краска на прежде белой дверце покоробилась от пущенной в нее бутылки с зажигательной смесью. Радуясь длинной дороге в больницу, Рой в душе надеялся, что у напарников не возникнет страстного желания поскорее вернуться на улицы.
Уже стемнело, когда они снова направились к участку на Семьдесят седьмой. К этому времени они успели перезнакомиться. Каждый начинал сегодняшнюю смену с другими напарниками, но потом пошла эта кутерьма на углу Манчестер и Бродвея. Только ни хрена оно не значит, кто с кем работает, решили они, заключив меж собой соглашение: держаться друг друга и обеспечивать обоюдную защиту; ни в коем случае не откалываться от компании: у них и так единственный дробовик, и хоть это нисколько не вдохновляет такой ночью, как сегодня, но все-таки кое-что да значит.
– Еще нет и девяти, – сказал Баркли, полицейский с десятилетним стажем, вызванный сюда из Портового округа. Лицо его напоминало измятый томат.
Первые два часа, что они были вместе, он непрестанно повторял: «Ну как в это поверить! Никак не поверить», пока не услыхал: «Будь добр, заткнись, пожалуйста». Уинслоу, бросивший эту реплику, имел за плечами пятнадцатилетний опыт службы в полиции и работал в Западном округе. Сейчас он сидел за шофера, и Рой думал: слава тебе, Господи, что послал нам в водители ветерана. Уинслоу никак нельзя было назвать лихачом. Машину он вел медленно и осторожно.
Сидя в одиночестве на заднем сиденье и упершись бедром в ящик с патронами, Рой не выпускал дробовика из рук и, плотно обхватив его, баюкал при каждом толчке колес. Пока что ему не довелось стрелять из него, но он решил для себя, что выстрелит в первого, кто швырнет в них булыжник или зажигательную бомбу, и уж тем более в любого, кто откроет по ним огонь или просто прицелится, и даже в любого, кто покажется подозрительным. Стреляют и по грабителям. Это всем известно. Но он по грабителям стрелять не будет, хотя и рад, что кто-то другой взял на себя этот труд. Они уже убедились, что подобие порядка наступает при первых же залпах оружия. Уничтожить этот кошмар может только слепая сила, короче, он рад, что кто-то стреляет и по грабителям. Но сам решил, что это не про него. Он постарается вообще ни в кого не стрелять. И уж во всяком случае, не станет никому стрелять в живот.
В приступе человеколюбия я, скорее, снесу им башки, думал он. Но ни при каких обстоятельствах не выстрелю в живот никакому подонку.
– Куда предпочитаешь направиться, Рой? – спросил Уинслоу, перекатывая сигару из одного угла широченных губ в другой. – Ты тут лучше всех ориентируешься.
– Похоже, больше всего достается Центральной авеню, Бродвею и Сто третьей, – сказал Баркли.
– Давайте проверим Центральную, – сказал Рой.
Ровно в 9:10, когда они были в каких-нибудь двух кварталах от Центральной авеню, запросили помощь из пожарного депо: на Центральной ведется интенсивная стрельба, мешающая тушить пожары.
Они еще не доехали до места, а Рою уже стало жарко. Приблизившись, насколько это было возможно, к пылающему аду, Уинслоу затормозил. Пот лил с Роя в три ручья. Когда они, пробежав трусцой с полтысячи футов, достигли первой из осажденных пожарных машин, взмокли уже все. Вечерний воздух обжигал Рою нутро. Треск выстрелов слышался, казалось, отовсюду. У Роя жестоко разболелся живот, но было это совсем не расстройством. Пуля ударила в бетонное покрытие тротуара и, отскочив от него, со свистом прожгла пустоту. Полицейские шмыгнули к пожарной машине и прильнули к ней, чуть не столкнувшись лбами с чумазым пожарником в желтой каске и с выпученными глазами.
Нет, это не Центральная авеню, думал Рой. И этот указатель, отмечающий ее перпендикулярное соседство с Сорок шестой улицей, – не может быть, чтобы он не ошибался. Когда-то Рой работал на Ньютон-стрит и, патрулируя эти улицы, сменил не один десяток напарников, кто-то из них успел уж умереть, как тот же Уайти Дункан. Центральная была одним из курсов фелеровских университетов. Он проходил их в юго-восточном Лос-Анджелесе, а Центральная авеню была его базовым классом. Но этот шипящий, кипящий ад – нет, это не Центральная авеню.
Тут только Рой заметил два перевернутых автомобиля. Они горели.
Внезапно до него дошло, что он даже не может вспомнить, что за здания стояли на углу Сорок шестой и Сорок седьмой. Каждое из них теперь вздымалось ввысь на двести футов сплошной пеленой огня. Случись это год назад, я бы наверняка не поверил, размышлял он. Я бы просто решил, что это приступ, какой-то фантастический приступ белой горячки, и запил бы его новой порцией виски. Он вспомнил о Лауре и поразился тому, что и сейчас, даже сейчас, когда он лежит, прижавшись к огромному колесу пожарной машины, а со всех сторон на барабанные перепонки давят грохот стрельбы, вой сирен и гулкие раскаты бушующего пламени, – даже и сейчас у него может засосать под ложечкой и легко согреться теплом нутро, стоит ему лишь представить ее в своих объятиях или подумать о том, как она гладит его волосы рукой – гладит так, как не умел никто другой: ни Дороти, ни мать, ни одна женщина в мире, никто. Когда страсть к алкоголю притупилась, он догадался, что любит ее, а когда три месяца спустя после начала их романа он осознал вдруг, что она пробуждает в нем те же чувства, что и Бекки, догадка превратилась в знание. Дочь его, болтавшая теперь без умолку, выговаривавшая слова совершенно ясно и отчетливо, ребенком, несомненно, была удивительным и блестящим – не просто красивым, но потрясающим. Пока он думал о Бекки, светлой, златокудрой, какой-то воздушной и неземной, и о Лауре, смуглой, неподдельной, настоящей, земной, земной до мозга костей, о Лауре, которая помогла ему прийти в себя и вновь почувствовать себя человеком, о Лауре, которая хоть и была младше его на пять месяцев, но казалась мудрее и старше на несколько лет, которая щедро и неустанно расходовала на него свои жалость, сострадание, любовь и гнев, терпеливо дожидаясь, когда же он бросит пить (он и бросил – после того как, замеченный нетрезвым на дежурстве, был отстранен на два месяца от работы), которая ухаживала за ним (все эти шестьдесят дней) у себя на квартире, которая так ничем его и не укорила, а лишь глядела на него светло-карими трагическими глазами, когда он снова обрел человеческий облик и решил возвратиться к себе, – пока он думал о них обеих, боль возвратилась.
Лаура его так никогда и не упрекнула, а он по-прежнему навещал ее по ночам три-четыре раза в неделю. Потому что не мог без нее обходиться, потому что нуждался в ней. Она просто глядела на него, всегда лишь глядела своими влажными глазами. Конечно, постель в их взаимоотношениях играла отнюдь не последнюю роль, однако его привязанность к Лауре совсем не исчерпывалась ею – лишнее доказательство того, что он влюблен. Вот уже несколько недель и даже месяцев он был на грани принятия решения, и сейчас его передернуло от одного только предположения, что, не будь этого сосания под ложечкой и сменяющего его тепла, приходящих всякий раз, как он думал о Бекки и Лауре, не будь этого чувства, которое умел он в себе вызывать, – не будь этого, он бы не колеблясь тут же, прямо здесь, в хаосе, замешанном на крови, огне и ненависти, развернул бы карабин дулом к себе, взглянул в большую черную дыру двенадцатого калибра, в холодный черный глаз, и быстро нажал на курок. Нет, подумал он, вопреки всем заверениям Лауры он еще далек от окончательного выздоровления, иначе ему бы не лезли в голову подобные мысли. Испокон веку его учили, что самоубийство – всегда сумасшествие. Но разве не сумасшествие то, что творится вокруг? У него, как в бреду, закружилась голова, и он решил перестать об этом думать и пожалеть свои мозги. Его мокрые ладони оставляли на ствольной коробке крохотные капли влаги. Он вдруг забеспокоился, что влага разъест дробовик ржавчиной, и принялся тереть деревянную ствольную коробку рукавом, пока не осознал абсурдность того, что делает, и не рассмеялся вслух.