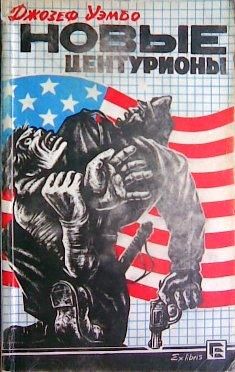Он шел и на ходу перезаряжал свой револьвер.
– Смылся, – сказал он. – Долбаный ниггер смылся. Даю тысячу долларов тому, кто разрешит мне пальнуть в него хотя б еще один разок.
Когда они вернулись к машине, Уинслоу объехал квартал и вновь приблизился к неуклюже осевшему посреди улицы зеленому «линкольну». Из разбитого радиатора со свистом вырывался пар.
Уинслоу медленно шагнул из дежурки и попросил у Роя дробовик. Тот протянул его и, взглянув на Баркли, пожал плечами. Уинслоу ступил к машине и дважды, изрыгая из дула пламя, выстрелил по задним колесам. Потом подошел к капоту и снес прикладом фары, затем вдребезги разбил ветровое стекло. Потом обошел машину, держа дробовик наготове, словно приняв «линкольн» за опасного раненого зверя, способного еще атаковать. Потом ткнул прикладом в два боковых окна. Рой поглядел на дома по обеим сторонам улицы, но света нигде не увидел. Жители юго-восточного Лос-Анджелеса, и всегда-то умевшие не встревать в чужие дела, в эту ночь, что бы там ни происходило и ни гремело на улице, не выказывали ни малейшего любопытства.
– Довольно, Уинслоу, – крикнул Баркли. – Давай убираться отсюда ко всем чертям.
Вместо того чтобы последовать этому совету, Уинслоу отпер дверцу. Чем он там занимался, Рою видно не было, но спустя секунду тот появился с большим куском ткани в руках. При свете фар Рой наблюдал за тем, как он складывает и убирает карманный ножик. Уинслоу снял с бака колпачок и сунул внутрь ветошь, роняя на асфальт под резервуар капли бензина.
– Ты что, Уинслоу, рехнулся? – заорал Баркли. – Давай-ка убираться отсюда ко всем чертям!
Но тот не обратил на него никакого внимания и дал струйке бензина скатиться на безопасное от «линкольна» расстояние. Потом сунул пропитанную жидкостью тряпку обратно в бак, оставив лоскут фута в два свободно свисать до земли. Затем отбежал к «устью» бензинового ручейка и поджег его. Почти тут же, встрепенув густое облачко дыма, раздался взрыв, и машина запылала.
Уинслоу уселся в дежурку. Вел ее он так же осторожно и не напрягаясь, как прежде.
– С волками жить – по-волчьи выть, – произнес он наконец, обращаясь к своим притихшим напарникам. – Сейчас я такой же ниггер, только и всего. И знаете, что я вам скажу? Чувствую я себя просто замечательно.
После трех стало немного спокойнее, а в 4:00 они подъехали к участку на Семьдесят седьмой. Спустя пятнадцать часов, проведенных им на дежурстве, Роя наконец сменили. Он слишком устал, чтобы переодеваться в штатское, и, уж конечно, слишком вымотался, чтобы отправляться к себе на квартиру. Но даже устань он меньше, он все равно бы не поехал сегодня домой. В целом мире существовало одно-единственное место, куда мог он сегодня отправиться. Когда он затормозил перед домом Лауры, часы показывали ровно 4:30. Теперь он не слышал выстрелов. Эта часть Вермонт-стрит была не тронута огнем и почти не тронута грабежами. Было очень темно и покойно. Он дважды постучал, и она тут же открыла дверь.
– Рой! Который теперь час? – спросила она. Халат был накинут на желтую ночную сорочку, и на Роя накатила приятная волна знакомой боли.
– Прости, что так поздно. Но я не мог не прийти.
– Ну что ж, входи. У тебя такой вид, будто ты вот-вот плюхнешься на пол и расквасишь нос.
Рой вошел, и она зажгла лампу. Держа его за руки, поглядела на него так, как умела только она.
– На тебе лица нет. Вместо него – настоящая чумазая рожица. Снимай с себя форму, а я пока наполню ванну водой. Ты голоден?
Рой покачал головой и направился в знакомую уютную спальню. Расстегнув ремень, он позволил ему преспокойно упасть на пол. Но, вспомнив о том, какая Лаура аккуратная, пнул его ногой в угол и тяжело уселся на бело-розовый пуф. Он скинул туфли и посидел с минуту, подумывая о сигарете и не в силах ее прикурить.
– Хочешь выпить, Рой? – спросила Лаура, выходя из ванной, откуда слышался бодрящий шум воды.
– Нет, Лаура, пить я не хочу. Даже сегодня.
– Глоточек тебе не повредит. Один лишь глоток.
– Не хочу ни одного.
– Ну ладно, малыш, – сказала она, подбирая его туфли и кладя их на дно стенного шкафа.
– Что бы я без тебя делал!
– Тебя не было четыре дня. Я подумала, ты занят.
– Собирался прийти еще в среду вечером. Тогда как раз, когда началась вся эта канитель, но нам пришлось работать внеурочно. Да и вчера. Ну и сегодня, конечно, Лаура, сегодня был денек – хуже некуда. Только я все равно не мог не прийти. Стало невмоготу.
– Я очень сожалею обо всем этом, Рой, – сказала она, стягивая с него сырые черные носки, а он лишь молча кивал, благодаря ее за помощь.
– Сожалеешь – о чем?
– Об этом бунте.
– Чего ради? Разве ты его затеяла?
– Я черная.
– Никакая ты не черная, а я никакой не белый. Мы просто парочка влюбленных.
– Я негритянка, Рой. Не потому ли ты и переехал отсюда обратно к себе?
Ты ведь знал, что мне не хочется тебя отпускать.
– Пожалуй, я слишком устал, чтобы вести сейчас эти разговоры, Лаура, – сказал Рой, поднимаясь и целуя ее. Потом содрал с себя прилипшую к телу пыльную рубашку, и Лаура повесила ее на вешалку вместе с брюками. Трусы и тенниску он бросил на пол в ванной. Взглянув на глубокий шрам на своем животе, он ступил в мыльную пену. Никогда еще ванна не была так кстати.
Наслаждение. Он откинулся спиной назад, прикрыл глаза и расслабился. С минуту он дремал. Потом почувствовал ее присутствие. Она сидела рядом на полу и наблюдала за ним.
– Спасибо, Лаура, – сказал он, с любовью глядя на эти светло-карие глаза в крапинку, и гладкую темную кожу, и нежные изящные пальцы, легшие ему на плечо.
– Как по-твоему, что я в тебе нахожу? – улыбнулась она, поглаживая ему шею. – Притяжение противоположностей, должно быть, так ты думаешь, а? Твои золотистые волосы и золотистое тело. Ты самый красивый мужчина из всех, кого я знаю. Думаешь, все дело в этом?
– Это только позолота, – сказал Рой. – А под нею – ничего, кроме обычной жестянки.
– Под нею всего предостаточно.
– Если там что-то и есть, так только благодаря тебе. Когда ты подобрала меня год назад, там не было ничего.
– Это я была ничем, – поправила она.
– Ты – это все. Ты – это красота, и доброта, и любовь, но главное, ты – спокойствие и порядок. Именно это мне сейчас нужно – спокойствие и порядок. Знаешь, Лаура, я очень напуган. А вокруг еще этот хаос.
– Я знаю.
– Я не был так напуган с тех самых пор, как ты помогла мне бросить пить и научила не бояться. Господи, Лаура, ты же не знаешь, что такое хаос, не знаешь, как он выглядит. На это стоит посмотреть.
– Знаю. Я знаю, – сказала она, продолжая ласкать его шею.
– Больше не могу без тебя, – сказал он, уставившись на водопроводный кран, роняющий время от времени капли в пенную гущу. – У меня была кишка тонка остаться с тобой, Лаура. Да, мне нужен мир и покой, да, я знал, что вместе нам не страшна ничья ненависть, но у меня была кишка тонка. Теперь же, когда я вернулся в те одинокие стены, оказалось, что у меня тонка кишка жить без тебя, теперь, после всего этого мрака и безумия сегодняшнего дня, без тебя мне никогда не суметь...
– Не говори больше ничего, Рой, – сказала она, поднимаясь. – Подожди до утра. Утром все будет иначе.
– Нет, – ответил он, поймав ее за руку мокрыми, скользкими от мыла пальцами. – Нельзя зависеть от завтра. Выгляни в окно, и ты поймешь, что не должна зависеть от завтра. Отныне я живу лишь ради тебя и благодаря тебе только жив. Теперь ты от меня не отвяжешься. Никогда.
Рой притянул ее к себе и поцеловал в губы, потом припал к ее ладони, а она все так же гладила его шею свободной рукой, повторяя: «Малыш, малыш мой...», как повторяла всегда. И как всегда бывало, он испытал облегчение.
По-прежнему без сна, они лежали обнаженные, укрывшись одной простыней, а над Лос-Анджелесом вставало солнце.
– Тебе надо поспать, – шепнула она. – Вечером тебе опять дежурить.
– Теперь уж такого кошмара не будет, – сказал он.
– Да. Может быть. Может, их усмирит Национальная гвардия.
– Даже если нет – все равно, теперь такому кошмару не бывать. Мой отпуск начинается с первого сентября. К тому времени наверняка со всем этим будет покончено. Как ты смотришь на то, чтобы справить свадьбу в Лас-Вегасе? Можно устроить это, не откладывая.
– Нам вовсе не обязательно жениться. Женаты мы или нет – какая разница.
– Знаешь, та пара косточек, что мне еще не разбили, по-моему, ужасно щепетильна в отношении всяких там светских приличий. Сделай это ради меня.
– Хорошо. Ради тебя.
– Разве ты не воспитывалась в уважении к институту брака?
– Папа был баптистским проповедником.
– Что ж, тогда все ясно. А меня воспитывали лютеранином, да только в церковь мы никогда особо часто не ходили, за исключением тех случаев, когда того требовали приличия, так что, полагаю, из наших детей мы сделаем баптистов.
– Я больше никто. Я не баптистка. Никто и ничто.