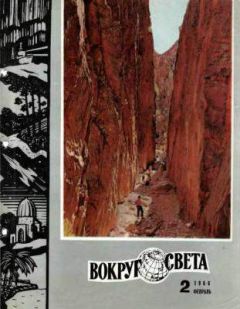Дверь открылась, женщины бросились внутрь. Он оказался сразу один на мостовой около автомата и объявления о благотворительном базаре: «Входная плата — 6 пенсов». «Это не ее сумка, — сказал он себе. — Таких сумок, наверное, сотни». Но все-таки он бросился за старухой. «И не введи нас во искушение», — говорил викарий с кафедры в дальнем конце зала, возвышаясь над старыми шляпами, вазами и грудами женского белья. Когда молитва была окончена, его прижало толпой к киоску, где лежали любительские акварели в рамках, изображавшие озерные пейзажи, сигаретницы, медные и бронзовые пепельницы и груды читаных романов. Он ничего не мог поделать. Он не смог бы никого найти в этой толпе, но это ровным счетом ничего не значило, потому что по другую сторону киоска стояла старуха. Он перегнулся через киоск и поглядел на сумку. Он помнил, как девушка сказала: «Меня зовут Энн», и увидел слегка выдавленную на коже букву «Э» там, где была снята хромированная монограмма. Он поднял глаза, но не заметил, что у киоска стоял еще один человек, глаза которого не отрывались от злого лица старухи.
Он был потрясен этим так же, как был потрясен предательством Чолмонделея. Он не чувствовал вины перед министром обороны — тот был из сильных мира сего, из тех, кто заседал и знал правильные слова. Но это было зло: люди одного и того же класса охотятся друг за другом. Он продвигался вдоль киоска, пока не оказался рядом со старухой. Он наклонился. Он прошептал: «Как вы достали эту сумку?» Но между ними просунулась голова другой женщины. Она даже не увидела, кто прошептал. Она подумала, что это одна из женщин, решившая, что сумка куплена в одном из киосков. Но все-таки вопрос испугал ее. Он увидел, как она пробивает локтями путь к двери, и стал проталкиваться за ней.
Когда он выбрался из зала, старуха уже сворачивала за угол. Он прибавил шагу, не замечая в спешке, что его самого преследует человек, одежду которого — мягкую шляпу и плащ, сидевший как форменный, — он бы сразу распознал. Скоро он начал узнавать путь, по которому шел, — он был здесь с девушкой. Это было все равно, что воссоздавать в памяти прошлое. Сейчас появится газетный киоск, там стоял полисмен, а он хотел убить ее, завести куда-нибудь за дом и застрелить безболезненно, в спину. Злобное лицо, которое он видел по ту сторону киоска, казалось, шептало ему: «Не волнуйся, мы все за тебя сделали».
Удивительно, как быстро семенила старуха. Она держала в одной руке сумку, а другой придерживала абсурдно длинную юбку. Она казалась Рип Ван Винклем[2] женского пола, проснувшимся в одежде пятидесятилетней давности. Он думал: «Они с ней что-то сделали, но кто «они»?» Девушка не была в полиции, она ему поверила. Значит, только Чолмонделею было нужно, чтобы она исчезла. Впервые с тех пор, как умерла его мать, он беспокоился за кого-то другого, беспокоился, потому что знал — Чолмонделей не остановится ни перед чем. На Кайбер Авеню, у дома 61, старуха остановилась и достала ключ. Это дало Рэвену возможность настичь ее. Он вставил ботинок в закрывающуюся дверь и сказал:
— Мне нужно кое-что спросить.
— Уйди, — сказала старуха. — Мы с такими, как ты, дела не имеем.
Он нажал на дверь.
— Послушай, тебе же лучше будет.
Она отступила в темноту маленькой прихожей.
— Где ты достала эту сумку? — спросил он и добавил: — Мне не доставит труда свернуть тебе шею.
— Эки! — закричала старуха. — Эки!
— Чем вы тут занимаетесь, а? — спросил Рэвен.
Он открыл наудачу одну из дверей и увидел дешевый диван с торчащими пружинами, большое зеркало в позолоченной раме, картинку, изображающую обнаженную девушку по колено в море. В комнате пахло духами и газом.
— Эки! — снова закричала старуха. — Эки!
— Так вот в чем дело, — сказал он. — Ты — старая сводня! — И вернулся в холл. Но старуха уже была не одна. С ней был Эки. Он пришел из глубины дома, беззвучно ступая резиновыми подошвами. Высокий и лысый, с бегающими глазками, он поглядел на Рэвена.
— Что тебе нужно, мой милый?
Он принадлежал совсем к другому классу: хорошая школа и богословский колледж сформировали его выговор, что-то еще сломало ему нос.
— Какие выражения! — сказала старуха, глядя на Рэвена из-под опекающей руки Эки.
— Я спешу. Я не хотел сюда врываться. Скажите мне только, где она достала эту сумку, — ответил Рэвен.
— Если вы имеете в виду ридикюль моей супруги, — сказал лысый, — он был подарен ей (разве не так, Тайни?) квартиранткой.
— Когда?
— Несколько дней назад.
— Где она теперь?
— Она останавливалась только на одну ночь.
— Почему она отдала сумку?
— Мы в этом мире только раз, — сказал Эки, — а потому… вы помните эту цитату?
— Она была одна?
— Разумеется, она была не одна, — вставила старуха.
Эки кашлянул и мягко оттолкнул ее.
— С ней был ее возлюбленный, — он надвинулся на Рэвена. — Это лицо мне о чем-то говорит. Тайни, дорогая, принеси мне сегодняшнюю газету.
— Не трудитесь, это я, — сказал Рэвен и добавил: — Вы соврали насчет сумки. Если девушка была здесь, то она была вчера ночью. Я намерен обыскать этот бордель.
— Тайни, дорогая, — сказал лысый. — Выйди в заднюю дверь и позови полицию.
Рука Рэвена лежала на пистолете, он не вынимал его, но не спускал глаз со старухи, которая неуверенно затрусила к двери в кухню.
— Поскорее, Тайни, дорогая.
— Если бы я подумал, что она в самом деле пошла, я бы вас на месте пристрелил, но она ни в какую полицию не пойдет. Вы трусите больше меня. Она сейчас прячется в уголке, — сказал Рэвен.
— О нет, я уверяю вас, что она пошла в полицию. Я слышал, как хлопнула дверь, можете пойти и проверить, — сказал Эки. И когда Рэвен проходил мимо, он поднял руку и ударил его по виску кастетом.
Рэвен отдернул голову — он ожидал этого, — проскользнул в кухню, вынул пистолет.
— Стой, — сказал он. — Пистолет бесшумный. Я пришью тебя, как только двинешься.
Старуха была там, где он и ожидал ее увидеть, она скорчилась в углу между шкафом и дверью.
— О, Эки, чего ж ты его не ударил? — стонала она.
Эки начал ругаться. Грязная ругань текла из его рта без усилий, но ни тон, ни выговор не изменились. Это была все та же хорошая школа и богословский колледж. Многих латинских слов Рэвен не понимал. Он нетерпеливо сказал:
— Так где же девушка?
Но Эки просто не слышал его. Он стоял в нервном припадке, и глаза его закатились, можно было подумать, что он молится.
— Где девушка? — вновь повторил Рэвен.
— Оставьте его в покое, — сказала старуха, — он вас не слышит. Эки, — простонала она из угла, — все в порядке, Эки, ты дома, — она сказала яростно Рэвену: — Вот что вы с ним наделали!
Неожиданно ругань прервалась. Эки двинулся и закрыл дверь в кухню. Рука с кастетом схватилась за пиджак. Он сказал мягко:
— В конце концов, господин епископ, вы тоже, я уверен, в свое время среди стогов… — и захихикал.
— Велите ему уйти. Я обыщу дом, — сказал Рэвен.
Он не спускал с них глаз. Маленький душный дом действовал ему на нервы, сумасшествие и злоба кипели в кухне. Старуха с ненавистью следила за ним из угла.
— Господи, вы ее убили, — произнес Рэвен и добавил: — Знаете, что такое получить пулю в живот? Вы будете лежать здесь и истекать кровью.
Ему казалось: это все равно, что застрелить паука. Он вдруг закричал на ее мужа:
— С дороги!
Эки сказал:
— Даже святой Павел…
Он не сводил с Рэвена горящих глаз и не отходил от двери. Рэвен ударил его по лицу, а затем отскочил от его цепкой руки. Он поднял пистолет, и женщина закричала:
— Стойте, я уведу его! Не смейте трогать Эки. Они его уже достаточно побили в свое время.
Она не доставала ему до плеча, серая, земная и жалко-нежная.
— Эки, дорогой, пойдем баиньки. — Она потерлась морщинистым лицом о его рукав. — Эки, там письмо от епископа.
Его зрачки сместились вниз, как у куклы. Он почти пришел в себя.
— Так, так, я поддался, полагаю, вспышке гнева, — сказал он и взглянул на Рэвена, наполовину узнавая его. — А этот парень все еще здесь, Тайни?
— Идем в спальню, Эки, дорогой, мне надо с тобой поговорить.
Он дал увести себя из кухни, и Рэвен последовал за ними по лестнице. Он слышал, как они все время говорили, они о чем-то договаривались; как только он уйдет, они могут побежать в полицию: если девушки здесь не было или если они избавились от трупа, им нечего бояться полиции. На площадке стояло большое треснутое зеркало. Он поднимался по лестнице, глядя на свое отражение с небритым подбородком, с заячьей губой. Его сердце билось о ребра: если бы ему сейчас пришлось выстрелить — быстро, для того чтобы спасти свою жизнь, — рука и глаз подвели бы его. Он думал безнадежно: «Это конец, я теряю хватку, меня одолела юбка». Он открыл первую попавшуюся дверь и вошел в комнату, которая наверняка была лучшей спальней — с широкой двухспальной кроватью, с мебелью, фанерованной орехом, с маленьким вышитым мешком для гребенок.