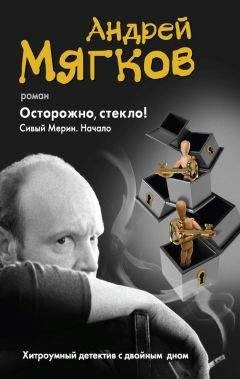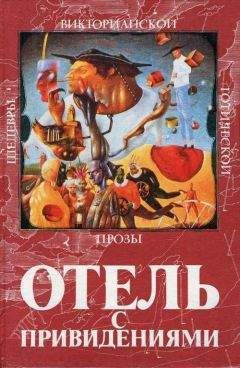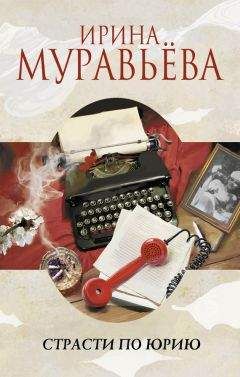— Сосико умер в 53-м, вас, Севочка, еще и в задумке не было, вы, простите, с какого года?
— С… 85-го, — не сразу соврал Мерин.
— Ну вот видите — и родителей ваших не было. А дед с бабушкой с какого?
— Бабушке скоро уже пятьдесят девять.
— «Уже», Севочка, в моем присутствии звучит, согласитесь, несколько неуместно. «Еще» пятьдесят девять — это куда ни шло. Значит, путем несложных расчетов по Малинину и Буренину — это в мои годы популярные авторы учебников по арифметике — ваша бабушка, когда Сосико помер, ходила под стол пешочком…
— Сосико — это кто?
— Сосико, мой друг, — это тот, при котором вам очень посчастливилось не жить: так моя мама Сталина называла. За это — донеси кто — могли посадить и расстрелять. А была она очень мудрая женщина. Он пятого марта окочурился, вернее — это народу пятого сообщили, а когда на самом деле — никто до сих пор не знает, сейчас появились свидетельства, что отравили его свои же прихлебаи, что очень похоже на правду, и неделю население медицинскими бюллетенями к «великой трагедии» подготавливали, очевидно, чтобы поменьше самоубийств было: он ведь почти в каждом доме отцом родным числился, иконой в правом углу висел. А у нашей семьи, — Марат Антонович внезапно замолчал, одним глотком осушил наполненный до половины бокал, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Когда продолжил, стало очевидно, что воспоминания даются ему нелегко: голос слегка дрожал, в интонацию закрались злобные, раздражительные ноты… — А у нашей семьи — под «нашей семьей» я подразумеваю маму, себя и больше никого, понимаете, Всеволод — ни-ко-го больше! Это только кажется, что семья у нас — пальцев на руках и ногах не хватит, а на самом деле, как говорится, «два человека всего мужиков-то: мама моя да я». Так вот у нашей семьи к этому всенародному отцу-потрошителю особые счеты: он через свой энкавэдэ проклятый маму в гроб вогнал и меня в человекообразные переквалифицировал. Вы хоть читали — что за зверь такой этот энкавэдэ?
— Знаю, конечно.
— Ну то-то же.
Неожиданно откуда-то издалека послышались едва различимые звуки, похожие на стон, Марат Антонович неуклюже поднялся, качнулся, не упал — ухватился за край книжного стеллажа, коряво оправдал ситуацию: «Вот, почитайте пока что-нибудь, я сейчас.» И вышел из кабинета.
У Мерина в мозгу застрочил пулемет:
Ксения Никитична покончила с собой в 1992-м.
Как он понимал, размышляя над материалами дела, в связи с развалом Союза, из-за почившей в Бозе советской власти многие старые люди тогда так уходили.
Но если — «СОСИКО», значит здесь — не «старая большевичка».
Что-то другое.
Случилось НЕЧТО, спровоцировавшее суицид, именно в 1992 году.
Шестнадцать лет назад.
Шестнадцать.
Ушла из жизни в год рождения внучки? Антонине, внучке, шестнадцать, родилась в 92-м.
И что? При чем здесь внучка. Идиот.
Марат Антонович взял старт, по его же словам, «самозабвенного превращения себя в недочеловека» в сорок девять лет, то есть… в 1992…
Шестнадцать лет назад!
До этого не пил сорок девять лет.
Сорок девять!!
А теперь — «ни дня без строчки».
1992 год.
Что за год такой — первый год без советской власти?
Сын.
Сын Антон в 92-м пошел в первый класс…
И опять-таки — что из этого? Еще раз идиот.
В 92-м инсульт у главы дома. Понятно: ушла из жизни жена, с которой прожил… сколько?
От тысячи девятисот девяносто двух отнять тысячу девятьсот тридцать восемь… пятьдесят четыре года!
И с тех пор ни разу не посетить могилу жены?!
И что? Не хочет бередить память, боится умереть: девяносто лет человеку.
Дочь Надежда родилась в 1953-м, в год смерти «Сосико», через десять лет после Марата.
Антон родился в 86-м, когда…
— Совсем из ума выжил: «скорую» ему подавай, опять умирает, видите ли. — Неожиданно возникший Марат Антонович нетвердой походкой подошел к столу, взял мобильный телефон, набрал две цифры.
Мерин вздрогнул.
— Антон Игоревич?
— Ну да, великий композитор, кто еще кроме него в нашем доме каждый день умирает? Не надоест человеку. А я сиднем при нем. «Скорая»? Это Люба? Любочка, Марат Твеленев. Давненько не беспокоил вас — сутки, кажется. Присылайте, мы опять помираем. Спасибо, солнышко. — Он в сердцах швырнул аппарат. — Сейчас приедет медицина, с умными лицами прослушают, вколят снотворное… Как на работу к нам: два дня перерыв — событие. Надоел всем до чертиков, я уже их диспетчеров по голосам узнаю.
— Девяносто лет все-таки. — Сева попытался взять сторону престарелого музыканта.
— Ага, девяносто, он и в сто будет живее всех живых, Ленин наш бессмертный. Сиди тут с ним сиделкой. Ладно, бог с ним совсем. — Он плеснул себе в бокал остатки коньяка. — Так на чем мы остановились, молодой человек?
— А почему Антон вам не помогает ухаживать за отцом? — Мерин вон из кожи лез в потугах выйти на интересующую его тему. — Внук все-таки.
— Да какой он ему внук?! Какой внук?! Не внук он ему!! Понятно?! НЕ ВНУК!!! — Марат Антонович неожиданно сделался красным, белки глаз прошили темные прожилки. Он почти кричал. — Он ему чужой совсем! И я ему не сын! Вот так! Не сын я ему!! Сыновья любят отцов, почитают, а не смерти их ждут! А я жду! Жду!! Да не дождусь. Как говорит Ширвиндт: он еще простудится на моих похоронах. Вы любите Ширвиндта? Я люблю: он в самое тяжелое для них время фамилию не поменял. Что это за фамилия — Шир-вин-д-т — для антисимитской страны? А он не поменял. И еще — Розенбаум. И Райхельгауз. Молодцы, уважаю. Остальные все в Ивановых-Петровых переделались. Ваша как фамилия?
— Мерин.
— Мерин? Что-то знакомое. Ваши кто родители?
— Не знаю.
— Почему? — Выпитый коньяк к этому времени, было похоже, окончательно взял власть над неудавшимся литератором: слова выговаривались с трудом, мимика и жесты перестали помогать выражению мыслей и зажили своей самостоятельной, отдельной от хозяина жизнью. — Почему не знаете?
— Я их не застал.
— А-а-а, понимаю, другое дело, — удовлетворенно закивал Марат Антонович, как будто не заставать родителей в живых для детей было делом обычным, — мало ли, не застал и ладно. А мой вот застал. И еще застает. Вы как думаете, Всеволод, сколько еще будет заставать в живых мой сын своего родителя? Своего родителя, меня то есть? А? Сколько? Родителя? Кстати, не я родитель, я только участвовал, а рожал не я, почему же я — родитель? Неверно! Я помощник родителя. А родитель у всех один — мать. Моя мама Ксения Никитична мой родитель. А у моего сына — Лерик. Это не мой сын. Лерика. Пусть к ней идет. А-а-а! Она его не пускает, а он и не идет. Не дурак. Он до семи лет моей мамы сын, Ксении Никитичны, а теперь мамы нет — значит, ничей он сын, подкидной… подкидыш, подбросили его… подброшиш… сын полка… Маратович. Но — не Маратович. Мать — Валерия, значит — Валериевич. Я ему говорю: «Антон Валериевич!» Обижается. Сейчас не обижается — я с ним не знаком давно. Встречаемся, но не знаком…
В дверь позвонили, очевидно, прибыла «скорая», надо было идти открывать, но Марат Антонович, увлеченный размышлениями о взаимоотношениях с собственным сыном, желания покидать насиженное кресло не выказывал. Пришлось Мерину взять инициативу на себя.
— Пойти открыть?
Твеленев не сразу понял вопрос, обрадовался.
— А есть?
— Что есть?
— Хоть что.
— Я говорю — дверь открыть?
— Зачем?
— Звонят.
— Разве? A-а, да, — он вмиг погрустнел, — Нюша откроет.
Но звонки продолжались, никакая Нюша ничего не открывала, и Мерин вышел в тускло освещенную прихожую.
Удар по голове был не сильным, но настолько неожиданным, что он не устоял на ногах и рухнул, больно ударившись об острый угол стенного шкафа. Кто-то навалился на него сзади и неслабыми руками прижав к полу, зашипел в самое ухо:
— Ты кто такой, дядька? Тебе что от него надо? Ты зачем его спаиваешь? Ему вредно!
Сотруднику отдела МУРа по особо тяжким преступлениям понадобилось употребить все свое умение, чтобы в столь неожиданно возникшей ситуации через считанные секунды оказаться победителем: он рывком перевернулся на спину, коротко ударил напавшего ногой в живот и уже из положения сидя заехал ему в челюсть. Тот отлетел к противоположной стене и затих.
В дверь продолжали настойчиво звонить, Мерин поднялся, поправил на себе разорванную одежду, зажег свет. В углу, свернувшись калачиком, полулежал молодой парень. Ладонью он прикрывал лицо, на ковер сквозь дрожащие пальцы капала кровь — очевидно, целясь в скулу, Мерин ненароком захватил и нос противника.
— Лежи пока, открою, потом разберемся. — Он повозился с незнакомыми запорами, распахнул дверь.
— В чем дело?! Вы что, с ума сошли? Вызвали «скорую» и не открываете? Что случилось? Вы кто? — Трое в белых халатах, не уступая друг другу дорогу, ворвались в помещение.