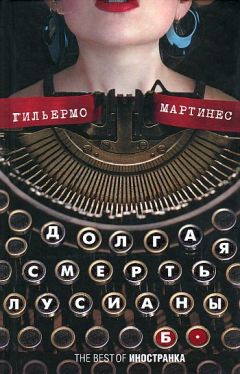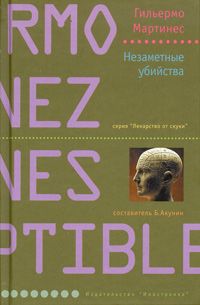всего к правде, – посоветовал я, зная, что в глубине души Селдом больше всего ненавидел лгать: это сейчас и удерживало его. – Дескать, у вас есть веские основания подозревать, что кто-то сбил Кристин намеренно, но вы пока не готовы изложить их, и все объясните завтра.
Селдом вздохнул и набрал номер. Я услышал в трубке женский голос и вспомнил, что у Питерсена есть дочь, с которой Селдом когда-то вел обстоятельную беседу о лошадях и о шотландских предках. Не потому ли, спросил я себя, он знает наизусть этот номер. Я уловил, что тон становится выше, голос – влекущим, а Селдом, все больше стесняясь, запинается на каждом слове и не знает, что отвечать. Я отошел на несколько шагов, чтобы оставить его одного, и сделал вид, будто разглядываю плакаты, развешанные по стенам коридора. В какой-то момент тон Селдома изменился, и я понял, что ему удалось наконец пригласить инспектора к телефону. Разговор получился кратким, но я увидел, что Селдом повесил трубку с облегчением и сразу направился ко мне.
– Дело сделано, – объявил он, – инспектор пришлет одного из своих людей, и тот останется здесь на ночь. Я попросил, чтобы полицейский действовал с максимальным тактом и чтобы матери Кристин ничего не говорили. Не хочу для нее лишних волнений. Хорошо бы сейчас пойти попрощаться с ней.
Мы снова поднялись на второй этаж. Селдом двигался по лабиринту пустынных коридоров с уверенностью старожила, и я тоже, увидев медсестру за одной из застекленных дверей, пережил головокружительное дежавю, ошибочное, невозможное ощущение во всем теле, будто за одной из этих дверей вот-вот мелькнет Лорна в белом халатике. В отделении интенсивной терапии царила тишина. Мать Кристин заметила нас через стекло и украдкой помахала рукой, приглашая в палату. Она надела на волосы сеточку, будто готовясь ко сну, и, когда мы подошли, даже вроде немного устыдилась, что мы застали ее в таком виде, но сеточку снимать не стала. Из узкого коридора между двумя отсеками палаты мы могли через стекло видеть койку Кристин. Все ее тело, вплоть до шеи, было обернуто простыней, словно саваном, выделялись две прозрачные трубки, жестко внедренные в горло и в одну из ноздрей. Можно было в профиль разглядеть воспаленное лицо, синюшное, лиловое, неузнаваемое. Селдом продиктовал матери номер своего телефона, и мы вызвались подменить ее завтра, чтобы она отдохнула. Женщина растрогалась, и глаза ее наполнились слезами благодарности и боли.
– Я ей скажу, когда она очнется, какими вы были внимательными. С ней, со мной.
Она подносила руки к груди, то сжимала, то разжимала их, словно хотела вырвать из самого нутра благодарность, которую словами не выразить. Селдом положил ей руку на плечо, неуклюжий, явно непривычный жест, что характерно для англосаксов, когда они, поддавшись порыву, решаются на телесное соприкосновение.
– Если ночью вы заметите, что Кристин зашевелилась, – произнес он, – хотя бы просто дрогнули веки, пожалуйста, прикоснитесь к ней: пожмите руку, погладьте по лицу.
Женщина, немного удивленная, кивнула. Мы распрощались и направились к двери, но Селдом задержался на мгновение, глядя через стекло на неподвижную, прикованную к койке фигуру Кристин.
– Думаю, я вам рассказывал об аварии, – начал он, – в которой потерял жену и двоих лучших друзей. Я сам несколько дней пробыл в коме, распростертый, как сейчас Кристин, в одном из этих аквариумов. Но кое-что я вам не рассказал; на самом деле я об этом никогда никому не сообщал. В то время я изучал возможные философские выводы из теоремы Гёделя, особенно вопрос о самореференции математического языка. Мне казалось, что в математических формулах, способных что-то сказать о себе самих, находится ключ к возможному математическому определению сознания. Какое-то время я посвятил чтению книг о мозге и беседам с неврологами и психиатрами. Полагал, будто в функциях нейронов кроется какое-то подобие математического завитка Гёделя. Я копал глубоко, как сейчас это делает Роджер Пенроуз, отыскивая какой-то признак или физиологический коррелят, органический след самого элементарного осознания себя. В то время я познакомился с Альбертом Раджио, волосы у него тогда еще были свои, и он решил, что меня заинтересует выступление одного нейробиолога, предлагавшего очень близкую к информатике модель сознания. Я пошел на лекцию и, к несчастью, сел в первом ряду. Предполагалось, что этот человек уже является или скоро станет мировой знаменитостью. Он приехал откуда-то из Соединенных Штатов, точно не помню, откуда. Помню зато, что он сразу показался мне похожим на проповедника, типа миссионера из мормонов, главным образом потому, что был безупречно выбрит, а воротничок его рубашки стянут лентой, как у священнослужителя. Помню его сладкую, мефистофелевскую улыбочку, такие люди умудряются, говоря, постоянно улыбаться. Чтобы начать выступление, он заявил, ему понадобится доброволец, и указал на меня, велев пройти на сцену. Спросил, чем я занимаюсь, и улыбка стала шире, когда он услышал, что я преподаю логику. Он усадил меня на стул лицом к публике. Своей таинственной и интригующей повадкой этот тип походил на иллюзиониста. Вначале он рассуждал о двоичности разума и тела, потом предложил провести ментальный эксперимент. Представьте, что мы в операционной, сказал он, и поднял мою ногу. Затем сделал вид, будто его рука – ножовка, и я на мгновение ощутил ее зубцы на своем колене. Все рассмеялись. Если мы отрежем ногу нашему другу, он, разумеется, не перестанет быть тем, кто есть, заявил этот шут. Может, его станут донимать воображаемые рези, фантомные боли в удаленной конечности, но в целом это будет тот же человек, которого все вы знаете, разве что немного колченогий. Он поднял мою другую ногу и сделал то же движение ножовкой, будто отрезал и ее. Теперь он несколько потерял в росте, заявил фокусник, и ему уже не нужно тратиться на обувь, однако в остальном он – тот же, кем и был всегда, до самых своих глубин. Он поднял мне руки и сделал два быстрых взмаха, будто отрубил их одну за другой. Теперь у него нет и рук, возникнут трудности с тем, чтобы пользоваться ножом и вилкой, но, несомненно, он все тот же, и откликнется, если мы назовем его имя. Он встал позади меня, провел рукой снизу вверх по спинному хребту и сделал вид, будто это – двуручная пила, чьи зубцы вгрызаются в мою плоть. Теперь мы выпилим ему позвоночник, и ему ничего не останется, как только спокойно лежать. И, несмотря ни на что, даже если он не сможет поднять веки, он все тот же, там, глубоко внутри. Потом он взялся за мою голову и повернул ее слева направо,