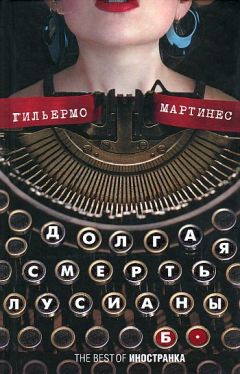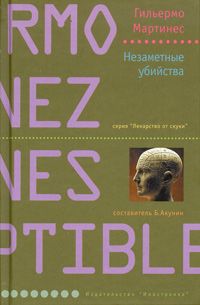сообразил, что мы говорим
гавагай, как они бы сказали «Добрый знак!», когда мимо пробегает один из этих ушастых зверьков.
Но ведь это, вдруг осознал я, то же самое, что сейчас у нас происходит с фотографиями. Теперь я стал лучше понимать, почему Селдом осторожничает. Каков истинный смысл серии, у которой пока только два элемента? Не слишком ли поторопились мы заключить, скорее всего ошибочно, что гавагай значит кролик? Я попытался нащупать какую-то иную связь между фотографиями. Кристин получила свою перед тем, как ее сбила машина, как предупреждение или предостережение. Однако фотография, предназначенная Хинчу, была спрятана, ее должны были обнаружить только после его смерти. Имело ли это небольшое различие какой-то смысл, преследовало ли какую-то цель?
Увидев, что Селдом заканчивает семинар, я поспешил к столу, чтобы какой-нибудь студент не перехватил его. Профессор помахал мне рукой, белой от мела, и сделал знак подождать еще минутку, пока он сотрет с доски. Перед тем как очертания кролика исчезли окончательно, я спросил, не выбрал ли Куайн данный пример в честь Кэрролла как некий намек.
– По правде говоря, не знаю, – ответил Селдом. – Вообще-то надо спросить у Рэймонда Мартина, он был с Куайном хорошо знаком. Хотя если бы Куайн хотел намекнуть на Кэрролла, то он скорее выбрал бы яйцо: во второй книге об Алисе имеется дискуссия с Шалтай-Болтаем по поводу личного языка, которая самым непосредственным образом связана с данной проблемой.
– И еще я думал, пока слушал вас, что проблема антрополога, по сути, та же самая, что каждый раз вставала перед нами, когда мы обсуждали продолжение логической серии: каждый вопрос антрополога – новый элемент, кажется, будто он приближает к значению, но никогда не позволяет вывести единственное решение.
– Да, верно, – согласился Селдом, – ведь, если антрополог строго придерживается своих правил, операция по отклонению смыслов потенциально бесконечна. Поэтому безнадежны попытки отправить в космос послание на каком-то из человеческих языков: оно не будет понято. Думаю, в итоге то, что мы называем «значением», – неожиданное, счастливое следствие логической ошибки, характерной для нашего рода: индукция на основе немногочисленных случаев, выведение концепта исходя из первых примеров. Мы довольствуемся совпадениями в самом первом приближении, достаточно грубом и небрежном. Но и последующие попытки уточнения, которые нам представляются более детальными, могут быть бессильными. Вот что, по сути, показывает эксперимент Куайна.
– Я полагал, что эти две фотографии, которые нам подложили, тоже имеют какое-то значение, требующее перевода, будто кто-то твердит гавагай раз за разом, чтобы мы наконец поняли.
– Дальше! – бросил Селдом, внезапно заинтересованный.
– Однако я не слишком продвинулся: просто попытался вообразить какую-то другую связь, что-то менее очевидное, чем «кролик». И вот что мне удалось придумать: Кристин прислали фотографию перед тем, как совершить на нее наезд, будто желали, чтобы она увидела снимок. Но в случае Хинча фотографию спрятали под контейнер с конфетами, чтобы ее обнаружили после его смерти.
Селдом молчал, машинально потирая лоб испачканным мелом пальцем.
– Думаю… – начал он и осекся, потрясенный какой-то мыслью. – То, что сейчас вы сказали, поразительно. Вы совершенно правы. – Его взгляд словно обратился внутрь, лицо застыло: Селдом, как я имел возможность изредка наблюдать, будто пораженный внезапной слепотой, преследовал некую ускользающую мысль. – Все так, как вы говорите: гавагай не обязательно означает кролика, пусть нам и повторяют это слово, когда кролик пробегает мимо. Каково истинное следствие из этой мысли? Мы пока не знаем, хотя… – Он внезапно пришел в себя, словно стряхнув наваждение. – Но вы шли сюда не за тем, чтобы поведать мне это, правда?
Я описал ему в общих чертах свой провальный визит к Кристин. И сразу, не останавливаясь на столь болезненном для меня расставании, рассказал о встрече с Андерсоном и о том, что журналист сообщил относительно Леонарда Хинча и подпольного производства педофильских фотографий. Селдом изменился в лице, будто не мог до конца постигнуть смысл сказанного: недоверие и горестное изумление боролись в нем.
– Это ужасно, – вздохнул он. – Ужасно. И это причинит неизмеримый вред Братству: все мы окажемся под подозрением. Нужно срочно сообщить Ричарду, если только он уже не в курсе дела.
– Поэтому я и пришел сюда: Андерсон знает, что Хинча отравили, а Кристин сбили машиной, намереваясь убить, и собирается опубликовать об этом статью.
– Значит, нужно прямо сейчас пойти к Ричарду: он до сих пор знаком с людьми, способными убедить издателя газеты отложить публикацию на несколько дней. Хотя при нынешнем положении вещей, – воскликнул он, – было бы лучше предать все гласности! Не хватало, чтобы нас обвинили в том, что мы покрываем такие дела. – Селдом собрал книги, с которыми сверялся во время урока, и сложил их в небольшую стопку. – Надо бы вернуть книги в библиотеку, но ладно, до завтра подождет. Думаю, в этот час мы найдем Ричарда в пабе «Орел и дитя».
Вслед за Селдомом я прошел по коридору между аудиториями, и мы спустились по лестнице в холл. Селдом двинулся к своему почтовому ящику, чтобы на время оставить там книги, и медленно вернулся, будто нес какой-то взрывоопасный предмет. В руках у него был конверт без адреса, почти не запечатанный: лишь одна капля клея на конце клапана виднелась с изнанки. Селдом повертел его. Никакой надписи. Он осторожно, двумя пальцами, отклеил клапан, и из конверта выпал снимок, белой стороной кверху. Перевернув его, мы увидели Льюиса Кэрролла и маленькую Алису наедине, в любовном объятии, непосредственно перед поцелуем в губы или сразу после него. Хотя на этой фотографии нельзя было заметить ни сантиметра обнаженного тела, изображение смущало больше, чем на предыдущих снимках. Снимали, вероятно, с очень близкого расстояния, автоматически. Алисе было лет десять. Кэрроллу в ту пору уже перевалило за тридцать, но на фотографии он представал хрупким, томным юношей, на манер романтического поэта, с аккуратным пробором и пышными кудрями. Алиса в его объятиях казалась не больше куклы, создавалось впечатление, будто она стоит на цыпочках, а Кэрролл чуть приподнимает ее и притягивает к своим губам. Она одета как невеста, вся в белом, лицо в профиль, короткие волосы рассыпались по плечам. Левой рукой Алиса обнимает его за шею, а сильная, полностью раскрытая ладонь Кэрролла лежит на ее талии. Глаза у обоих закрыты, губы почти слились. Губы Алисы полуоткрыты, запечатлены в неизмеримо краткий момент перед поцелуем или сразу после него. Возможно ли, что они притворялись, играли в какую-то игру? Игру в жениха и невесту, подставляя друг другу губы, сближая их, насколько возможно? Но, даже если и подразумевалась игра, не было ни грана невинности в этой фотографии. Отрешенное, сосредоточенное выражение на лице