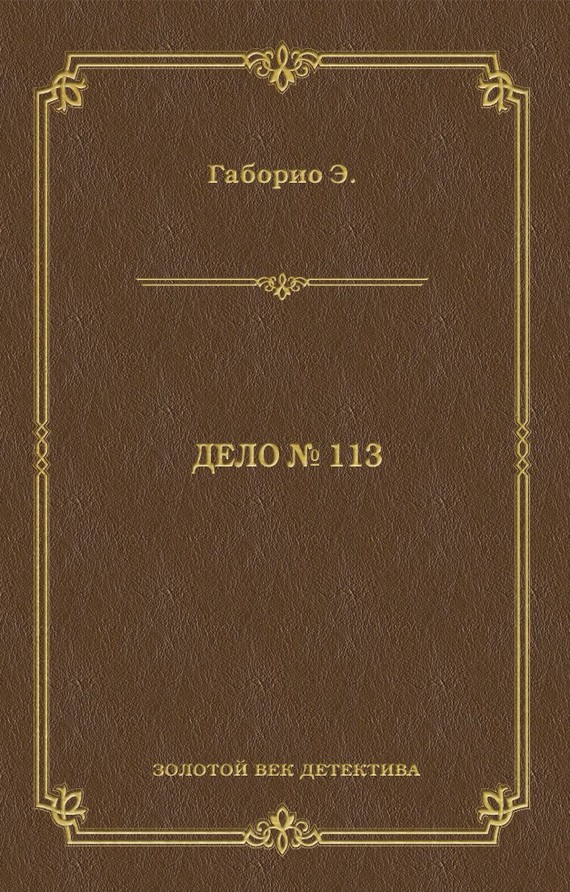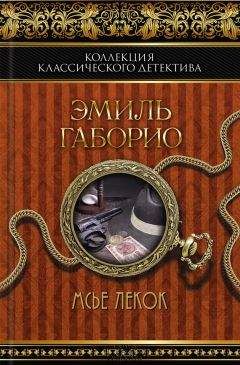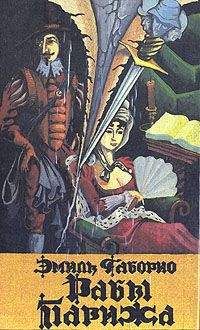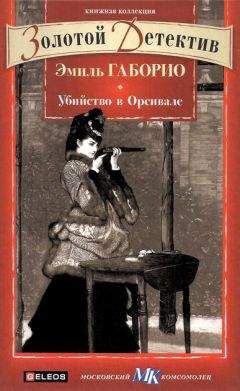ей на ум.
И ее так это беспокоило, что она решила сбросить с сердца эту тяжесть и поднялась к своей дочери. Склонившись над огарком, Валентина читала.
– Дочь моя, – обратилась к ней графиня. – Один молодой человек, который мне очень нравится, попросил у меня твоей руки, и я дала ему свое согласие.
Пораженная этим неожиданным сообщением, Валентина вскочила.
– Это невозможно, – пробормотала она.
– Почему?
– Да ты сказала ли ему, кто я такая, ты сообщила ли ему обо всем?
– Это ты про прежние глупости? Да боже меня сохрани! Я полагаю, что и ты настолько благоразумна, что будешь тоже молчать.
Как ни была подавлена Валентина гнетом материнского деспотизма, однако это возмутило ее.
– Когда же наконец ты перестанешь испытывать меня, мама? – воскликнула она. – Выйти замуж за человека и ничего не сообщить ему – да ведь это подлее и хуже, чем предательство!
Графине страшно захотелось обругать ее. Но она поняла, что на этот раз ее угрозы ни к чему не приведут, и вместо того, чтобы приказывать, стала ее умолять.
– Дорогое дитя мое, – сказала она, – моя милая Валентина, если бы ты хоть сколько-нибудь понимала весь ужас нашего положения, то ты бы так не говорила. Твоя глупость послужила началом нашего разорения. Сегодня оно может быть прекращено. Знаешь ли ты, что нас ожидает впереди? Кредиторы уже грозятся выгнать меня из Вербери. Что тогда с нами будет? Неужели же ты допустишь, чтобы на старости лет я побиралась с протянутой рукой? Мы погибаем, и все наше спасение – в твоем замужестве.
Ошеломленная, уничтоженная, Валентина задавала себе вопрос: действительно ли эта высокомерная женщина, несговорчивая до сих пор в том, что касалось чести и долга, – ее мать? И, говоря так, она не лжет в первый раз за всю свою жизнь?
Увы, это действительно была ее мать!
Ловкие доводы и постыдные софизмы, которые приводила графиня, не могли ни тронуть, ни поколебать Валентину, но в то же время она не сознавала в себе ни силы, ни храбрости противостоять матери, которая валялась у нее в ногах, заклиная спасти ее своим замужеством.
Взволнованная так, как никогда еще в жизни, терзаемая тысячами самых противоположных чувств, она не решалась ни отказать, ни соглашаться и умоляла мать дать ей несколько часов на размышление.
– Ты этого хочешь, – сказала она дочери, – хорошо, я удаляюсь. Твое сердце лучше подскажет тебе, чем ум, какой выбор сделать между бесполезным ожиданием и спасением твоей матери.
И с этими словами она вышла.
Наутро Валентина встала бледная, промучившись целую ночь без сна, и готова уже была дать отрицательный ответ, но когда вечером к ним пришел Андре Фовель и она увидела перед собой угрожающий и в то же время умоляющий взгляд своей матери, самообладание окончательно покинуло ее. А может быть, сыграло роль и то, что помимо ее воли в душе ее появилась надежда. Брак, даже несчастный, открывал перед нею новые перспективы, новую жизнь, быть может, даже прекращение невыносимых страданий.
В этот вечер мать оставила ее вдвоем с этим человеком, который должен был скоро стать ее мужем.
Увидев ее всю в слезах, страшно взволнованной, Фовель ласково взял ее за руку и спросил о причине ее слез.
– Разве я не лучший ваш друг, – сказал он, – разве я не достоин того, чтобы вы поверили мне свое горе, если оно у вас есть? Зачем же плакать, мой друг?
В этот момент она почувствовала, что могла бы обо всем ему рассказать, но мысль о скандале, о гневе матери и об оскорблении, которое она нанесет этим Андре, лишила ее мужества. Она поняла, что сообщать об этом уже поздно, и, громко зарыдав, как и все девушки, когда приближается последняя минута, отвечала:
– Мне страшно…
А он, объяснив себе эти слезы боязнью неизвестного, протестом стыдливости, стал ее утешать, разуверять, но все его ласковые слова вместо того, чтобы успокоить ее, только удвоили ее печаль.
Но в эту минуту быстро вошла госпожа Вербери и предложила ему подписать контракт. Андре Фовель не должен был узнать ничего.
А через несколько дней, в яркий весенний полдень, в деревенской церкви произошло венчание Андре Фовеля с Валентиной Вербери.
С самого утра в этот день замок наполнился подругами невесты, которые, по обычаю, должны были одеть ее к венцу.
Она старалась казаться спокойной, даже смеялась, но тем не менее была бледнее, чем ее вуаль. Ее угнетали угрызения совести. Ей казалось, что вот-вот по ее лицу догадаются об истине и что ее белое платье составляет для нее только горькую иронию и еще большее унижение.
Она задрожала, когда одна из близких подруг приблизилась к ней, чтобы приколоть ей на голову флёрдоранж. Ей казалось, что эти цветы сожгут ее. Но они не сожгли ее, и только кусочек проволоки, плохо загнутой назад, уколол ее в лоб, и из ранки скатилась на платье капелька крови.
Дурное предзнаменование! Валентина почувствовала себя дурно.
Но предзнаменования часто не оправдываются, и через год после свадьбы Валентина уже чувствовала себя счастливейшей из женщин.
Счастливейшей!.. Да, она была бы ею вполне, если бы только могла забыть…
Андре ее обожал. Он не бросал своих занятий, и все ему удавалось. Но он хотел быть богатым, страшно богатым, не для себя, а для женщины, которую он так любил, которую хотел окружить всеми радостями света. Находя ее красивой, он желал видеть ее и богатой.
Восемнадцать месяцев спустя госпожа Фовель родила ему сына. Увы, ни этот сын, ни другой, который родился еще через год, не помогли ей забыть первого, брошенного на произвол судьбы, того, который был продан за деньги в чужом краю.
Страстно любя своих сыновей, она воспитывала их, как принцев. И, вспоминая о своем первенце, не могла удержаться, чтобы не думать: «Кто знает, есть ли у него там хлеб?»
Что, если бы она знала, где он теперь, если бы только у нее хватило храбрости!.. Но она не решалась. Часто она беспокоилась также и о мешке, порученном ей Гастоном, о тех драгоценностях маркизы Кламеран, которые она считала себя не вправе держать при себе.
Иногда она говорила себе: «Слава богу, несчастья позабыли обо мне».
Бедная женщина! Несчастье – гость непрошеный и оно редко забывает о человеке.
Луи Кламеран жаждал независимости, популярности, денег, удовольствий, неизвестного. Он не любил своего отца и до бешенства ненавидел брата Гастона. Сам старый маркиз помимо своей воли возбуждал в младшем сыне всепожирающую зависть