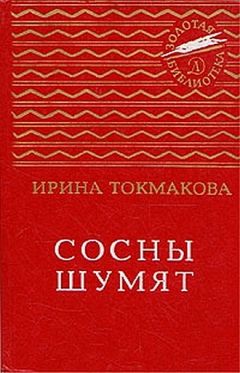Хвосте. Ты описывала в них лес Пасторали, только не сознавала этого.
– Это ты рассказывала мне эти истории?
Вот теперь пазл складывается. Мамины слова – как связующая нить. Когда я была маленькой девочкой, она рассказывала мне байки о фермерской дочке, жившей в лесу. Когда я выросла, я положила эту историю в основу своих книг. Но ее знала не только я. Ей воспользовался также Леви, чтобы придать своей лжи достоверность, убедить нас, будто лес инфицирован спорами погибельной болезни. А в действительности та девушка, дочка фермера, скорее всего, просто гуляла по лесу и, заблудившись, не вернулась домой.
В чужом пересказе сюжетная линия этой истории изменялась, она обрастала новыми подробностями и в итоге становилась совершенно иной – как частенько бывает с историями. Я не свожу с мамы глаз. Ее лицо потихоньку розовеет, но взгляд отсутствующий; похоже, она тоже вспоминает время, проведенное в том лесу.
– Сейчас Пастораль уже не та, какой ты ее помнишь, – говорю я. – Люди там живут в страхе.
Мать снова бледнеет, она озадачена.
– Чего они боятся?
– Болезни… Мы все эти годы страшились вязовой ветрянки. А как выяснилось, в реальности ее не было.
– Я не понимаю, о чем ты…
Не будь я такой истощенной и настолько поглощенной собственными мыслями, я бы расплакалась. Или закричала. Но я лишь молча взираю на мать, сидящую в гостиничном номере. В номере, который мой мозг воспринимает как промежуточный пункт между прежней, привычной и новой, еще не известной мне толком жизнью.
– Да, верно, ты не понимаешь, – наконец обращаюсь я к матери. – И никогда не понимала. Но я не та дочь, что ты вырастила. Я другая. И мне кажется, что я впервые сознаю сейчас, кто я.
– Мэгги… – прикасается к моей руке мать.
Как же редко она протягивала ко мне руки в детстве. Лишь тогда, когда я болела. И только для того, чтобы отвести упавшую на лицо прядь. Она дистанцировалась от меня. И теперь я знаю почему. Она видела во мне того человека и то место, которые старалась забыть. Прошлое, которое пыталась стереть из памяти. Я была чужой в своем собственном доме.
Я заглядываю в светло-голубые немигающие глаза матери, и мне становится ее искренне жаль: она так долго хранила свою тайну, приоткрыв мне завесу над ней лишь чуть-чуть, когда я была еще ребенком. Не удержавшись, она поведала истории, укоренившиеся в моем сознании так глубоко, как будто лес и Пастораль всю жизнь призывали меня: «Вернись!»
– Поедем домой, – предлагает мама. – Ты сможешь заново начать жизнь.
Я хочу ей улыбнуться, но ухмылка выходит кривая:
– Моя жизнь не остановилась от того, что я туда уехала. У меня сейчас другая жизнь. И теперь у меня есть муж.
Мама выпускает мою руку:
– Ты же в это не веришь? В то, что он действительно твой муж?
В глазах у меня вмиг вспыхивают искорки гнева.
– Я прощаю тебя, мама, – говорю я вместо тех слов, что хотела сказать. – Я прощаю тебя за то, что ты не поняла, как впустить меня в свою жизнь, когда я была маленькой, и за то, что ты до сих пор этого не знаешь. И вместе с тем я тебе благодарна, что ты открыла мне в тот день правду. И что послала Тео на мои поиски. Но я не могу вернуться домой с тобой и отцом. Я не смогу вернуться к своей прежней жизни в Сиэтле.
Впрочем, что-то мне подсказывает, что и дома в Сиэтле у меня уже нет. За те семь лет, что я отсутствовала, родители наверняка сложили мои вещи в коробки и продали тот старый дом, в котором я когда-то жила одна.
Мать испускает долгий, натужный вздох, словно она удерживала его в себе все эти годы. И я позволяю ей себя обнять. Она сжимает меня так, словно не собирается выпускать, словно хочет наверстать все упущенное нами за то время, когда она не привлекала меня к себе и не гладила по головке, заверяя: «Всё будет хорошо, доченька!»
Я полагала, что моя жизнь в Пасторали была иллюзией, коконом, оплетшим личность, которой я до этого была. Но, возможно, здешний мир также обрекает меня на изоляцию. Моя прежняя жизнь в Сиэтле тоже разбита. И не важно, куда ты поедешь, – трещины в сосуде твоей жизни все равно зияют. Надо просто решить, где тебе хочется его склеить., где ты будешь ощущать под ногами твердую почву…
Я прощаю мать за то, что хранила свои секреты. За то, что не поехала за мной, когда я пропала. Хотя я, наверное, понимаю, почему она этого не сделала. Пастораль не ассоциировалась у нее со страхом. Для нее она была тем местом, куда она бежала от страха. Ее убежищем от греха и боязни расплаты. И, быть может, она думала, что я захотела исчезнуть. Так, чтобы меня никто не нашел. Она защищала меня – по-своему. И потом, Пастораль – это место, где я родилась. Я никогда не была чужой, пришлой в этом уединенном поселении посреди леса. Я его уроженка, туземка! Появившаяся на свет на его территории.
Тео
Я сижу на кровати. На лбу капельки пота. Глаза напряженно скользят по сторонам. Я пытаюсь опознать комнату – ищу прикроватную тумбочку, старый комод, высокое окно и занавески, колышущиеся в лунном свете. Но я не в фермерском доме.
Я в номере отеля. В городке, о котором и слыхом не слыхал.
До плеча дотрагивается Калла:
– Что, приснился кошмар?
– Воспоминание.
– О чем?
Я заламываю руки за затылок:
– О моей сестре.
Жена садится рядом, нежно обхватывает ладонями мою руку:
– У тебя есть сестра?
– Была…
Стоит мне закрыть глаза, и я снова вижу Рут. Она пускает мыльные пузыри из своей спальни в узкий коридор, разделявший две наши комнаты, и визжит от восторга: «Ты видел их, Тревис?» А если я сразу не отвечаю, она топает по полу маленькой ножкой. Восьмилетняя девочка, желающая привлечь внимание брата: «Мыльные пузырики, Тревис! Если ты поймаешь хоть один, то загадай желание!» Но это воспоминание быстро сменяется другим, гораздо худшим: как я нахожу Рут в номере дерьмового отеля. Опоздав всего на несколько минут.
Правда, еще большую боль мне причиняет осознание: я ведь совсем о ней забыл! Последние два года я даже не подозревал о том, что у меня имелась сестра. Жила, а потом умерла… Эти воспоминания – как удар под дых.
– Она умерла, – говорю я жене. – Покончила с собой.
– О, Тео, я