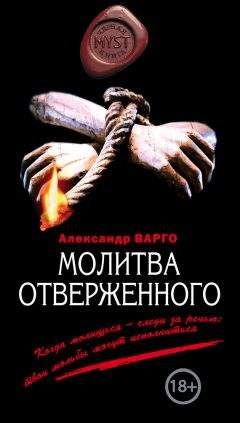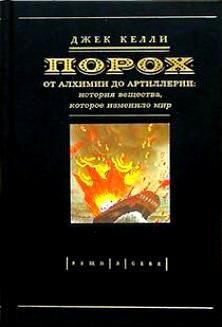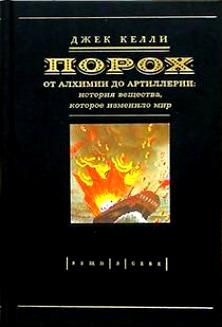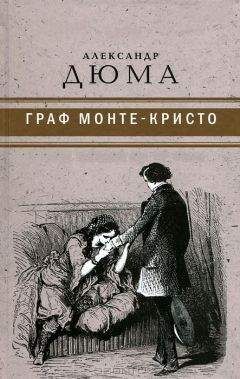Людмила кивнула ему, комкая в руках платок.
— Что же все-таки случилось? — спросил Александр, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно.
Сестра Тани смотрела на него с видом собаки, побитой камнями. Она словно не понимала простого вопроса, и Денин перевел взор на Риту.
Девушка, как уж смогла, с запинками, но рассказала все, что знала:
— Они с Леонидом поехали в ЗАГС, по дороге на них кто-то напал. Маму пока не допрашивали, она без сознания. — Она всхлипнула. — Ей все лицо сожгли. Я не видела, но врач сказал, что там ничего не осталось, ни носа, ни глаз. Нас к ней не пускают. Говорят, еще скажите «спасибо», что живой осталась.
— Нашли тех, кто это сделал? — задал вопрос Денин.
Рита растерянно пожала плечами:
— Мы не знаем. Но вроде бы нет.
— А что ее жених? Как он себя чувствует?
— Не берет трубку, — подала голос Людмила, будто очнувшись от ступора. — Но следователь говорит, что с ним все в порядке. Только ничего не помнит. Мол, его по голове ударили. А в себя он пришел уже в машине, рядом с Таней.
«Вот тебе и жених! Он сейчас должен быть здесь, дневать и ночевать у ее палаты!» — подумал Денин.
Саше казалось, будто его черепная коробка наполняется кипящей ртутью. Еще немного, и отравленное месиво взорвет мозг, вырвется наружу. Если бы мысли могли убивать, то этот самый Леонид, несостоявшийся жених Тани, уже наверняка был бы разорван на куски. Ошметки его плоти уборщицы посыпали бы дезинфицирующим средством, чтобы не воняло.
— Саша, наверное, врачам нужны деньги? — робко спросила Людмила. — Мы не знаем, что делать. У нас нет регистрации. Таня готовилась получить гражданство, но теперь…
— Да знаю я, — с досадой проговорил Александр.
Он не сомневался в том, что этот самый Леонид наверняка был гражданином России, из-за чего Таня и решилась на брак. Он не хотел верить, что между его любимой и этим моральным уродом возможны какие-то чувства.
«Ты опоздал!» — заявил противный внутренний голос.
«Нет. Еще не поздно», — возразил Саша.
— Деньги найдем, — сказал Денин, ни к кому конкретно не обращаясь.
— Мы не можем тут долго находиться, — с усилием выдавила Людмила. — У меня дома парализованный отец, за ним некому ухаживать. Везти Таню в Кишинев сейчас невозможно. А с деньгами у нас плохо. Я еле на билет сюда собрала.
— Я все понимаю. Вам обеим лучше уехать. Я буду с Таней. У Риты есть мой номер, можете звонить в любое время.
— Нам даже не дали с ней повидаться, — сказала Людмила, и ее глаза вновь наполнились слезами. — Господи, да за что же все это свалилось на нас?!
Из реанимационного отделения вышел высокий мужчина в синем халате и хмуро посмотрел на визитеров из-под массивных очков.
— Вы к кому? — пробасил он.
Александр шагнул к нему и осведомился:
— Ковалеву можно навестить?
— А вы кто?
Саша замялся, однако в следующую секунду сориентировался, указал на женщин и сказал:
— Это дочь с сестрой. Я друг семьи.
— Друг семьи? — переспросил врач, глаза которого оставались хмурыми. — Нельзя к ней. И вам, и даже дочери. Вообще никому нельзя.
— Ладно, — произнес Саша, пытаясь держать себя в руках. — А цветы? Фрукты? — Словно в подтверждение своих слов он поднял перед собой руки, в которых сжимал пакет с покупками и хризантемы.
Врач посмотрел на него как на тяжело больного.
— Какие фрукты, молодой человек? Она под капельницей. Подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Денин с трудом сглотнул липкий ком, образовавшийся в глотке.
— Какие… какие перспективы?..
Врач поправил очки. Его взгляд случайно упал на рубцы, пересекавшие запястья молодого человека, и по его лицу скользнула едва заметная тень.
— Перспективы не очень. Ей залили лицо серной кислотой. Ожог третьей степени, поражены все слои эпидермиса, носоглотка, ротовая полость. Она лишилась зрения. Не может самостоятельно дышать — у нее отек легких.
— Лишилась зрения? — зачем-то повторил Саша, хотя все отлично слышал.
Его руки дрогнули, он лишь чудом не выронил фрукты с букетом.
— Состояние стабильно тяжелое. Конкретный прогноз можно будет сделать спустя два-три дня. Может, через неделю.
Врач уже развернулся, намереваясь уйти, но Денин спросил:
— Когда ее переведут в обычную палату?
Мужчина снял очки и с любопытством взглянул на него.
— Молодой человек, вы, судя по всему, невнимательно меня слушали. Вопрос стоит, будет ли она жить. Вы о чем? Какой перевод? Куда?
Саша услышал, как сзади кто-то заплакал. Интересно, это Рита или Людмила?
Он приблизился к врачу. Тот смотрел на него со смешанным чувством удивления и легкого раздражения.
— Пожалуйста, вытащите ее. Я люблю эту женщину. Прошу вас, — прошептал он. — Если нужна кровь — я сдам. Кожа для пересадки… Я заплачу любые деньги, чтобы она снова стала нормальной.
— Не бегите впереди паровоза, — сказал врач, надевая очки. — Пусть для начала придет в себя. А вопрос нормальности — не ко мне. О пересадке кожи еще рано говорить. К пластическим хирургам потом будете обращаться. — Доктор повернулся и пошел громадными шагами.
Он будто передвигался по воображаемым кочкам на болоте, стараясь не угодить в вязкую жижу.
Денин посмотрел на цветы. Они словно потускнели после разговора с реаниматологом, стали вялыми и блеклыми.
— Возьмите себе, — сказал он, протягивая букет и фрукты родственницам Татьяны.
Они молча забрали то и другое.
— Я буду дежурить тут. Вы поезжайте. Если будут новости, я позвоню.
Рита и Людмила с надеждой смотрели на него.
Подумав, он достал из кармана бумажник и внимательно пересчитал деньги. Запасы после размена квартиры таяли с неимоверной быстротой. Но у него еще оставались кое-какие средства.
— Это вам. На дорогу и прочее, — тихо сказал Саша, протягивая две пятитысячные купюры.
Помявшись, Людмила забрала деньги.
— Спасибо тебе огромное. Храни тебя Бог, — проговорила она.
— Бог сейчас нужен там, за дверьми реанимации, — заявил Денин и покачал головой.
Их разделяло всего лишь несколько метров. Его и Таню. Жаль, конечно, что она не знает, что он здесь и готов отдать за нее свою жизнь.
«Я люблю тебя. И буду любить, пока жив».
Он не слышал, как ушли женщины.
Она попыталась открыть глаза. Из этого ничего не вышло, веки были намертво склеены. Да и не только они. Тане казалось, что ее лицо облито каким-то липким веществом, которое теперь засохло, парализовало все нервы и мышцы. Дышать через нос было практически невозможно. Каждое сказанное слово причиняло женщине острую боль. Ей казалось, будто вместо человеческой речи из ее глотки нехотя тянулась колючая проволока, собирающая на себе ошметки плоти.
Но больше всего Татьяну пугала темнота. Уже который день вокруг была угольная чернота, без малейшего, хотя бы самого тусклого, невзрачного просвета, и это погружало ее в трясину отчаяния.
Однажды она дотронулась до повязки на лице, но побоялась ее снимать. Кроме того, это телодвижение было замечено доктором, который сразу предупредил бедняжку, что лица касаться нельзя. По крайней мере, пока он не разрешит.
— Иначе я буду вынужден привязать твои руки к кровати! — сказал он, и Таня притихла.
Она часто пыталась воссоздать в голове события, предшествующие ее попаданию в больницу. Несмотря на все усилия, память, словно выжатый тюбик, с трудом выдавливала из себя лишь крохи в виде последних кадров, которые еще хоть как-то осмысливались сознанием женщины.
Вот безумец в наряде Винни-Пуха насилует ее, беспомощную, подвешенную на ремнях. Затем укол в шею и кромешная мгла. Все, что последовало дальше, окутано клочьями вязкого тумана, пронизываемого резкими всполохами чудовищной боли.
В первые дни ей казалось, что ее лицо кто-то раздирал на части рыболовными крючками, бросал в открытые раны зажженные спички. Эта боль была беспредельной. Она доводила женщину до исступленного помешательства. Татьяна кричала до хрипоты, пока ей не делали обезболивающий укол, и только тогда она забывалась тяжелым сном. Боль, словно ненасытная мерзкая тварь, крепко присасывалась к лицу Татьяны, пожирала ее плоть и разум, делала это медленно, сантиметр за сантиметром, клетку за клеткой.
«Что у меня с глазами?»
С этого вопроса начиналось каждое утро. С ним же и заканчивался день. Впрочем, в ее положении день и ночь — категории весьма условные, она все равно ничего не видела. Поэтому судить о времени суток Татьяна могла лишь на основе разговоров с врачом или медсестрой.
Пару раз ей звонила Люда. Она сказала, что забрала Риту в Кишинев. Летние каникулы подходили к концу, и девочка должна была готовиться к школе, но Татьяна не винила сестру. Ее дочери нужен присмотр. Ей всего четырнадцать лет. Она еще слишком мала для того, чтобы жить самостоятельно в таком непростом мегаполисе, как Москва.