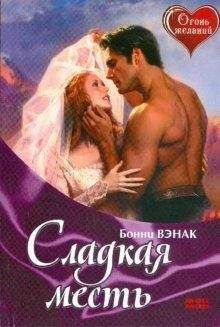— Ты что, тренируешься?
— Нет, у меня кровотечение.
— Господи! Позвать врача?
— Не надо, это месячные. Раз на раз не приходится. То ничего, а то просто ужас.
— Чем я могу помочь?
— Ничем. Если хочешь, налей мне чашку чая.
Тут я заметил, что ноги у нее в синяках и подтеках.
— Что у тебя с ногами?
— Так и раньше бывало. Ты не видел!
— Ну, не так.
— Со всяким танцором это может случиться.
— Пойдем, я тебе их вымою, — предложил я.
— Не волнуйся, все нормально.
— Пойдем, тебе станет легче, отвлечешься немного.
— Да у меня просто цикл. От этого не умирают.
Я все же настоял, и мы пошли в ванную. Но стоило мне дотронуться до ее ног, как она тут же выдернула их из таза.
— Не надо! Я боюсь!
— Боишься? Чего — щекотки?
— Нет, это мне напоминает монастырь.
— Я напоминаю монастырь?
— Да не ты. Они нам все время твердили: умывайтесь кровью ягненка, Мария омывает ноги Иисуса и еще всякую чушь. Там везде была кровь. Куда ни глянешь — Он везде на кресте, из раны сочится нарисованная кровь, кровоточащие сердца, палец святого покровителя под стеклом. А еще нужно было верить, что пьешь Его кровь и ешь Его плоть перед завтраком. Помню, чаша была холодная, а жидкость с металлическим привкусом. Они купались в крови, но о том, что каждый месяц бывает у женщины, следовало молчать, как о чем-то грязном. И когда это впервые случилось, я решила, что Бог наказывает меня, и очень боялась изойти кровью.
— Какое-то средневековье! Ты хочешь сказать, что ничего не знала, что никто тебе не сказал?
— Хорошие девочки об этом не разговаривали.
— Ты шутишь, наверно.
Она отчаянно замотала головой.
— Столько там лжи, ты просто представить себе не можешь!
— И давно это было? Лет шесть назад?
Она кивнула.
— И что ты делала? Наверное, с ума сходила?
— Я просто засела в сортире и сидела, пока меня не кинулась искать одна монахиня, когда я опоздала на урок.
— И она рассказала?
— Ну конечно! Стала болтать про первородный грех и такого наговорила! А через неделю зашла ко мне в комнату, когда я спала, и стала лапать меня.
— И долго это продолжалось?
— Со мной такое было только раз, а вскоре она ушла из ордена. У многих девочек были романы.
— А у тебя?
— У меня нет. Я почти ни с кем не дружила.
— Какой ужас!
— А с тобой что-нибудь подобное случалось?
— Нет, скучнее моего детства ничего не придумаешь, я оставался чистым и непорочным, ни один скаутский вожатый меня не тронул. Бедная ты моя крошка!
У Софи в жизни бывали мрачные периоды, но она не теряла оптимизма. Еще немного — и все изменится к лучшему, следующая проба станет «той самой», приятель какого-то приятеля пригласит ее участвовать в телепостановке. Ее огорчало, что она не вносит свою долю в хозяйство: случайные заработки, которые ей выпадали, — сегодня здесь, завтра там, в какой-нибудь рекламе, — едва покрывали ее повседневные расходы.
Однажды, отдыхая после занятий любовью, она спросила:
— Тебе не понравится, если я вдруг получу предложение участвовать в каком-нибудь шоу вроде «О, Калькутта!»?
После паузы я ответил:
— Почему же, соглашайся, раз это поможет твоей карьере! У каждого своя жизнь, своя работа! Ты получила предложение?
— Я прошла первую пробу, и меня пригласили на следующую.
— Потрясающе.
— Но ведь ты не в восторге, я знаю!
— Милая, делай то, что считаешь нужным. Почему бы тебе не найти агента?
— Агента не интересует, какой ты танцор. Он ищет того, кто зарабатывает большие деньги.
— Но именно деньги тебя и беспокоят?
— Я не хочу, чтобы ты один за все платил.
— Что значит «за все»? Ведь я здесь живу, и расходы остались те же. Ешь ты немного — соблюдаешь диету. Так что ничего лишнего я на тебя не трачу. А как ты обходилась, когда вы жили с Мелани?
— Ну, девушки — это совсем другое.
— Как это — другое?
— Вот так, другое.
— Я же не думаю о деньгах, зачем же тебе волноваться?
Я храбрился, хотя не мог без ужаса думать о том, что скоро ее потеряю.
— И вы потеряли ее из-за вашего друга Генри?
— Да.
— А долго вы жили вместе?
— Вполне достаточно, чтобы я почувствовал себя буквально разбитым, когда она ушла.
Какое-то время Алберт задумчиво смотрел в свою чашку, потом наконец сказал:
— Я часто спрашиваю себя, не упустил ли я…
— Что?
— Большую любовь. Поймите меня правильно: я женат удачнее, чем того заслуживаю, потому что своей работой причиняю Лиз массу страданий. Лучшие годы своей жизни она провела, дрожа от страха, что сейчас позвонит телефон, и ей сообщат о моей смерти.
— И никаких интрижек?
— Да было несколько. Но не таких, как у вас. И очень давно. Я тогда еще служил патрульным. Их лица уже стерлись из памяти. Странное признание, да? Бывало, во время ночной смены меня приглашали на чашку чая, а то и на кое-что другое, если повезет. «Кое-что другое» — вот и все. О любви на всю жизнь не могло быть и речи. — Он пристально посмотрел на меня. — Скажите, стоит ли так страдать, как страдали вы? Хотелось бы понять.
— Стоит, — солгал я.
— Но вы сказали, что чувствовали себя разбитым.
— Это писательское преувеличение.
— Генри уже был членом парламента, когда Софи к нему ушла?
— Нет. Но в банке ему надоело, и он подумывал о том, чтобы сменить занятие… Легче всего было бы считать его чудовищем, но он им не был. Во всяком случае, тогда. Заводным — да, был. Тщеславным, вечно в поисках денег, любым, даже не очень благовидным путем. Это да. И в то же время было в нем что-то, что видел лишь я один.
— Вы чересчур благородны, — возразил Алберт. — Не знаю, что бы я на вашем месте чувствовал.
— Нельзя требовать от друга, чтобы он был совершенством, — заметил я. — Генри никогда не опускался до заурядности, не то что я. И если хотите знать, не отбивал у меня Софи — она сама к нему ушла. Я был недостаточно внимателен к Софи, думал, что подарил ей домашний очаг, а она тяготилась им. В отличие от меня Генри был личностью яркой. И Софи ушла к нему, полагаю, в самый подходящий момент. Отборочные комиссии тори предпочитают женатых.
— После того как они поженились, вы часто виделись с ними?
— Долгое время вообще не виделись. Генри пытался уладить все миром. Потом я немного успокоился… Немного, но не совсем. К тому времени у меня появилась девушка, очень хорошая, но ничуть не похожая на Софи. Только у нас не заладилось. Я видел Генри с Софи несколько раз, и то случайно, на вечеринках. У Генри был свой круг знакомых, у меня — свой. После избрания в парламент Генри радикально изменил образ жизни. Они с Софи выезжали за город на уик-энды и все в таком духе. Вот вы сказали, что он мне был неприятен. Это не так. Раньше мы не разлучались, хотя и были совсем разные, как конь и трепетная лань, такое случается у близких друзей. Он обладал тем, чего мне всегда недоставало, — легкостью в обращении с людьми и живостью ума, хотя юмор его бывал порой сардоническим.
— У них были дети?
— Нет.
В этот момент зазвонил его карманный телефон. Он послушал с минуту, потом сказал в трубку:
— О’кей. Так его взяли? Он был вооружен? Слушай, парень, из-за этого типа, чего доброго, головы полетят. А журналисты там? Скажи всем, чтоб заткнулись. Я буду через полчаса.
Он со вздохом улыбнулся.
— Извините, мне надо ехать. Эти раздолбай залезли на стену Букингемского дворца. Шума будет — только держись! По мне, уж лучше бомбы.
Я поднялся и заплатил по счету.
— Не выходите сразу, — сказал он. — Будьте осторожны.
— Думаете, я все еще в опасности?
— Вы во что-то вляпались, но пока сорвались с крючка. Полагаю, тогда в Венеции вы действительно видели вашего друга и только поэтому до сих пор живы. Так что вы правы — старая дружба не ржавеет.
— Что же мне теперь делать?
— Ничего. Пока я не разберусь со всем этим. Впрочем, это не моя сфера. Но… У меня везде есть знакомые. Он ободряюще улыбнулся. — Я дам вам знать. Ведите себя как ни в чем не бывало. Вам обязательно надо быть в Лондоне?
— В общем, нет.
— Есть у вас друг, к которому можно поехать на время?
— Пожалуй.
— Так и сделайте. Только дайте знать, где вы.
— Нет слов, чтоб выразить мою благодарность. Ваш рассказ тронул меня до глубины души. Я вспомнил те далекие дни, когда бегал за обычными воришками.
С тем он и ушел. Я посидел еще немного, купил овощей и хлеба и пошел к машине. Под «дворник» была подсунута квитанция за парковку. На сей раз я не пожалел, что проштрафился.
Предложение Алберта я воспринял всерьез. Думая о том, куда бы поехать, я вдруг вспомнил про Роджера Марвуда, моего старого университетского тьютора[29] и преподавателя английского языка. Уроженец Корнуолла, он, когда вышел на пенсию, купил на все свои сбережения рыбацкий домик около гавани в Портлевене, решив вернуться к своим корням и жить как можно дальше от академических лужаек. Все это время он поддерживал со мной связь. Каждый раз, когда у меня выходил новый роман, писал письма — надо сказать, не всегда восторженные, длинные письма от руки, полные одиночества. Я многим был ему обязан: раньше всех обнаружил у меня способности и побудил заняться литературой. Именно Роджер послал мою первую рукопись знакомому издателю с убедительными рекомендациями, которые возымели действие. Я исправно отвечал на его письма, посылал в подарок на Рождество бутылку его любимого «молта»[30], и все же испытывал угрызения совести, потому что никогда он не видел от меня даже капли того дружеского тепла, которого так жаждал. Он был гей, хотя это слово применительно к Роджеру вводило в еще большее заблуждение, чем обычно.[31] Это был очкарик, таращившийся на жизнь и на свои любимые книги сквозь толстые окуляры. Такого веселым не назовешь, скорее мрачным. Его рассуждения о текущих событиях всегда были едкими, словно уксус.