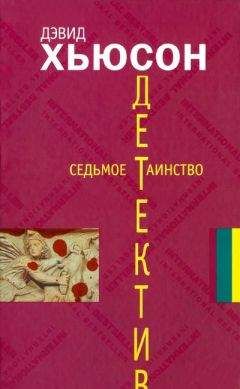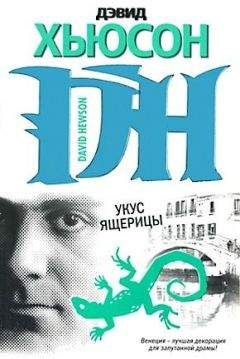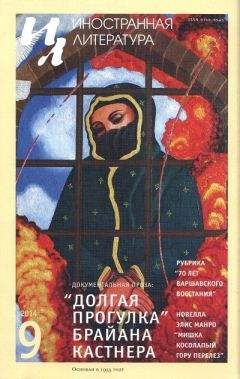Но там было и чудо, с которым он вырос и сроднился. Мечтатель еще помнил время, когда отец брал его на руки, мягко поднимал, и его глаза оказывались вровень с замочной скважиной — старая зеленая краска в этом месте за многие столетия облупилась, и под ней виднелось нечто похожее на свинец или тусклое серебро.
Пиранези — это, видимо, был он, ни у кого другого не хватило бы на такое ни ума, ни таланта — исполнил здесь свой самый последний трюк, завершивший ансамбль площади. Каким-то образом зодчий умудрился разместить замочную скважину на одной линии с базиликой Святого Петра, которая находилась в паре километров отсюда, за Тибром. И если заглянуть в это маленькое отверстие, можно увидеть потрясающий пейзаж. Посыпанная гравием дорожка указывала прямо через реку на собор, обрамленный с обеих сторон мощными кипарисами, образующими тоннель и похожими на темно-зеленые восклицательные знаки, такие высокие, что не умещались в границах видимого пространства. В конце этого естественного тоннеля возвышался огромный церковный купол, отчетливо видимый в ясный день. Казалось, он парил в воздухе, словно поддерживаемый некоей волшебной силой.
Фантазер много знал о художниках и архитекторах. Купол был творением Микеланджело. Может, они с Пиранези когда-то встречались и договорились: ты строишь церковь, а я делаю замочную скважину, и в один прекрасный день кто-нибудь обнаружит это чудо.
Алессио легко мог себе представить, как архитектор при этой мысли крутит ус. И еще мечтатель вообразил, что здесь имеется множество других загадок, других секретов, не разгаданных за все эти столетия, дожидавшихся, когда он родится и пойдет по их следу.
«Ты это видишь?»
Это был ритуал скромный, маленький, но важный, с которого начинался каждый день его школьных занятий и каждая воскресная прогулка, проходившая через площадь Пиранези. Когда Алессио смотрел в замочную скважину, вид, что открывался за рекой, этот потрясающий, великолепный вид, становился для него новым доказательством, что мир един, а жизнь продолжается. И лишь в последнее время мальчик начал понимать, что его отцу подобное подтверждение требовалось ничуть не меньше, чем ему самому. И маленькая ежедневная церемония вновь и вновь обновляла и укрепляла невидимую связь между ними.
«Да. Все по-прежнему на месте, все в порядке».
Ну, теперь можно начинать очередной день. Школа, пение и игры. Привычный и безопасный ритм семейной жизни. И все прочие ритуалы. Празднование его дня рождения тоже стало своего рода церемонией. Переход в особый возраст — семь лет, магическая цифра — был замаскирован под детский утренник. Утренник, в ходе которого отец достал из «мешка счастья» глупейший подарок — нечто, показавшееся Алессио интересным, когда он прочел инструкцию на упаковке, но удивившее позднее своей никчемностью.
Это были очки «мушиный глаз», хрупкая пластмассовая игрушка, здоровенная, громоздкая и неуклюжая, да к тому же скверно сработанная, с такими хилыми дужками, что они свободно болтались за ушами, когда виновник торжества аккуратно пристроил их концы под своими длинными иссиня-черными волосами и попытался удержать на месте. Игрушка предназначалась для того, чтобы видеть реальность такой, какой ее видит муха. Стекла магических очков были фасеточными, линзы сами состояли из множества линз — наверное, их были сотни, — как в цветном калейдоскопе, но без кусочков цветной бумаги, мешающих смотреть. «Мушиный глаз» давал возможность видеть вселенную, состоящую из взаимосвязанных изображений одного и того же предмета — все одинаковые и все разные, все связаны и все независимы. И каждое из них считает себя реальным, а соседа — воображаемым, каждое, наверное, живет под влиянием такой вот полной иллюзии. Он хорошо это понимал, уж его-то, Алессио Браманте, просто так не проведешь. Все видимое могло оказаться ненастоящим, нереальным; каждый цветок, которого он касался, каждый глоток воздуха — все это могло сделаться не более чем крошечным фрагментом, выпавшим из чьих-то изменчивых мечтаний.
Скорчившись и плотно прижавшись к двери, стараясь не обращать внимания на строгий, нетерпеливый голос отца, фантазер осознал еще одну вполне взрослую мысль, одну из множества, роившихся в последнее время в мозгу. Это был не просто взгляд мухи на мир, но еще и взгляд Бога — далекого, безликого, бесстрастного Бога — откуда-то из заоблачных высот, который мог отвести взгляд в сторону, прикрыть один глаз и прищурить другой в попытке лучше понять свои творения.
Алессио посмотрел в скважину более внимательно и задался вопросом: неужели этот мир и впрямь делится на множество миров? Или у нас имеется наш собственный, особый взгляд на него, способность, которая — из соображений доброты или удобства (он не был уверен, чего именно) — упрощает множественность мира и сводит его в единое целое?
Странные, причудливые мысли ребенка с чрезмерно развитым воображением.
Мечтатель знал, что отец вновь и вновь повторяет эти слова, хотя они никогда не слетали с его губ. Родитель говорил нечто совсем иное.
— Алессио, — не то жаловался на непослушание сына, не то умолял его Браманте-старший, — нам нужно идти. Уже пора.
— Почему?
«Какое это имеет значение, если я опоздаю? Школьные занятия продолжаются вечно. Что такое несколько потерянных минут, когда смотришь в таинственную замочную скважину, ищешь взглядом купол Святого Петра и пытаешься понять, кто же прав: люди или мухи?»
— Потому что сегодня не обычный день.
Тут мальчик оторвался от скважины, осторожно снял хрупкие очки и сунул в карман брюк.
— Правда?
Отец бросил взгляд на часы, что было совершенно не нужно. Джорджио Браманте всегда чувствовал время. Минуты и секунды, казалось, сами отсчитывались в его голове, всегда точно подсказывая, который теперь час.
— В школе будет собрание. Двери уже заперли, и тебе не войти до половины одиннадцатого…
— Но…
А ведь он мог бы просто остаться дома, почитать, помечтать.
— Никаких «но»!
Отец был немного возбужден и явно недоволен — не сыном, но самим собой.
— И чем же нам тогда заняться?
— Есть кое-что новое. — Браманте-старший улыбнулся при мысли, которой собирался поделиться. — Кое-что очень интересное.
Сын молчал, ожидая продолжения.
— Можешь и дальше расспрашивать, — продолжил отец. — О том месте, которое я обнаружил.
У мальчика на секунду замерло сердце. Новая тайна. Гораздо более значительная, чем та, на которую он смотрел сквозь замочную скважину. Сам слышал, как отец полушепотом рассказывал что-то по телефону; заметил, как много посетителей приходит к ним домой, а также то, что его всегда выставляют из комнаты, когда там начинается «взрослый» разговор.
— Да. — Фантазер помолчал, раздумывая, что бы все это могло значить. — Расскажи, пожалуйста.
— Ну так вот. — Джорджио поколебался, небрежно пожал плечами и засмеялся — манера, которую оба хорошо знали и понимали. — Не могу я тебе об этом рассказать.
— Ну пожалуйста!
— Нет. — Браманте-старший решительно помотал головой. — Это слишком важная вещь… о ней нельзя рассказать. Ее лучше увидеть своими глазами.
Археолог наклонился, улыбнулся и взъерошил Алессио волосы.
— Действительно такая важная? — переспросил мальчик, когда смог заставить себя произнести хоть слово.
— Да, действительно. И к тому же, — отец щелкнул пальцем по ненужным часам, — нам пора.
— Ох! — тихо выдохнул Алессио, и все мысли о Пиранези и его еще не обнаруженных задумках тут же вылетели из головы.
Джорджио Браманте наклонился к сыну и поцеловал в голову — совершенно необычный и неожиданный жест.
— Там все на месте? — небрежно спросил он и взял Алессио за маленькую сильную руку — занятой спешащий человек, это было видно сразу даже ребенку.
— Нет, — ответил мечтатель, хотя отец его уже не слушал.
Там просто ничего не было, ни в одном из сотен мельчайших, меняющихся миров, которые видел нынче утром. Купол Микеланджело спрятался, пропал где-то в тумане, повисшем за рекой.
Пино Габриэлли не был до конца уверен, верит ли он в существование чистилища, но по крайней мере знал, где последнее должно находиться — где-то между раем и адом, некий фильтрационный пункт для страдающих душ, ждущих, когда кто-то еще живущий, кто-то, кого они, возможно, знают, совершит соответствующий подвиг, нажмет на нужную кнопку и направит их дальше по надлежащему пути. Куда-то еще, в другое место, гораздо ближе. На стену служебного помещения его любимой церкви Святого Сердца Христова — церкви, в которой Габриэлли обретался большую часть времени с тех пор, как почти десять лет назад ушел в отставку с должности профессора архитектурного факультета университета Ла Сапьенца.