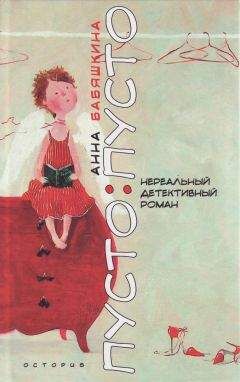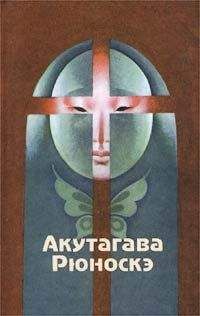– Именно! Скажи, пожалуйста, какие у него нынче религиозные воззрения?
– Нынче? Разве он сам тебе не сказал? – хохотнул Грачевский.
– Какие были воззрения? – невозмутимо уточнил Мышкин.
– А на кой тебе дьявол?
– Вот у меня тут написано: не вскрывать негра, вера у него такая. А какая?
– Да тебе-то что? – удивился Грачевский. – Не хочет покойник, чтоб его трогали, значит, не трогай. Не все ли нам равно – католик он, мусульманин или африканский колдун?
– Он-то сейчас ничего не хочет, – не согласился Мышкин. – Наверное, и против вскрытия возражать не стал бы.
– Дима, не хулигань! – посоветовал Грачевский. – А вдруг он из каких царьков? Или королевской семьи?
– А разве в Сомали королевство? Или в Конго?
– Какая разница, что там в Сомали! Вдруг у него родственники колдуны какие-нибудь. Превратят тебя в зомби и никого в жизни тебе больше вскрывать не придется. Самого вскроют. Из любопытства.
– Он завещание оставил? Нотариуса вызывали? – продолжал допытываться Мышкин.
– Ты вторгаешься в область, лежащую за пределами твоей профессии и служебных обязанностей, – охладил его Грачевский. – Завещание и прочее – дело юристов. А мы знаем одно: не хотел мужик, чтоб его резали – лучше от греха подальше. Еще засудят нас потом. Или международный скандал вызовешь.
– Как это для меня ни печально, но ты совершенно прав, – вынужден был согласиться Мышкин.
В открытую дверь просунулась клюкинская борода.
– Из консульства приехали, – сообщил он. – Забирать лилового.
– Негры?
– Нет, двое белых. Русские.
– Отлично! Зайди сюда, – приказал Мышкин. Он плотно закрыл за Клюкиным дверь и тихо сказал: – Толя, все-таки я не могу упустить такой случай.
– Ой, шеф, боюсь… – зашептал Клюкин. – Эти негритянские вуду… Они такое наколдуют!
– Я, чтоб ты знал, абсолютный атеист! – решительно заявил Дмитрий Евграфович. – Скажи, чтоб полчаса подождали. Все сделаю аккуратно. Мне всего пяток срезов надо. Никакой вуду не заметит.
Он справился за восемнадцать минут.
– Вскрытие я не делал, брюхо не вспарывал, крышечка в черепе совсем маленькая, сам и зашил – красота, никаких подозрений не будет. По крайней мере, сегодня, – сообщил он Клюкину, укладывая стекла со срезами в ящик стола. – А ты вообще ничего не видел. Или все-таки видел?
– Не видел, – подтвердил Клюкин.
– Вот за это я тебя и ценю, – похвалил Мышкин, перелистывая историю болезни и бегло просматривая.
Ничего интересного. Правда, на странице назначений глаз машинально отметил что-то. Пролистав историю почти до конца, он вернулся к той странице, где что-то такое мелькнуло. Вот оно: «indеx-m». Пора наконец, выяснить, что это за индекс.
Негра унесли два здоровых мужика с перекошенными мордами. Оба так и шныряли глазами по сторонам, верно, ждали нападения мертвецов. Мышкин сладко потянулся и снова взялся за статью.
Но, в голове непонятно откуда всплыло: «Конечно… конечно, древнеегипетские жрецы… так, жрецы… служители культа Ра – Бога Солнца… А при чем тут Бог солнца? Нет, запишем фразу, она вообще здесь безо всякого смысла, но записать надо…» И тут в мозгу у него словно кран слетел с резьбы – хлынул поток информации. Мышкин схватил карандаш, стопку бумаги и на полном автомате стал быстро записывать начало доклада о солнечной активности.
– Немножко интрижки подпустим, – бормотал он, принимаясь за десятую страницу. – Кто сказал, что научные тексты не могут быть такими же увлекательными, как детективы? Еще как могут… потому что самая настоящая драма в жизни только одна – драма идей. Ну, что там получилось?
И медленно стал перечитывать текст, четко выговаривая шепотом каждую фразу.
Донесся посуды. Значит, Клюкин уже налаживает сервиз «Морганатический» – от слова морг.
– Тащи шефа! – послышался голос Литвака.
– Сам придет! – возразил Клюкин. – Полиграфыч! – крикнул он.
Мышкин не ответил: перед ним возникла классическая задача для Буриданова осла. Писать дальше? Пойти пьянствовать?
Он давно усвоил, что процесс творчества – это всего несколько мгновений. Все нужное проносится в мозгах за доли секунды. Секрет лишь в том, чтобы эти секунды охватить внутренним взглядом, разложить спрессованную информацию на слова и записать. За несколько часов. Или за несколько дней. Или месяцев. И только дурак пренебрегает драгоценными в жизни мгновениями, каждое из которых уже никогда не повторится.
С другой стороны, ничего в голову ему сейчас больше не приходит. Так что же – писать дальше? Или пойти пьянствовать? Писать?.. Пьянствовать?..
– Писать, Дмитрий Евграфович! – решительно сказал себе Мышкин.
– Дмитрий Евграфыч! – дверной проем заняла фигура Клементьевой.
– Ась? – приложил он ладонь к уху. – Чяво тябе?
– Вас ждем.
– Давно?
– Да уж минуты две.
– Любимого шефа и два часа ждать – радость и счастье.
– Подождать? Рискуете, – предупредила Большая Берта.
– А что там такого рискованного?
– Буженина.
– Из лавки?
– Моя.
– Как же ты посмела скрывать от меня главное, несчастная? – вскричал Мышкин, бросил авторучку и отодвинул Клементьеву в сторону.
– Ничего я не скрываю…
Но Мышкин уже был за столом.
– Дай-ка мне тот, крошечный, – попросил он Клюкина, указывая на ломтик буженины величиной с ладонь и, закрыв глаза, медленно, с наслаждением разжевал его.
– Ах, Даниловна. Даниловна! – печально проговорил он. – Какая баба пропадает! Ослепли мужики все вокруг, до единого. Но ты все равно в девках не засидишься! Хоть и большая уже… Сколько годков тебе? Сороковник есть?
– Тридцать восемь, – застенчиво призналась Большая Берта.
– Врешь поди.
– Тридцать восемь и одиннадцать месяцев, – призналась Клементьева. – Да ведь вы все знаете.
– Ничего не знаю, коль спрашиваю. Больше тридцати тебе никто не даст. Вот и меня ввела в заблуждение твоя удивительная моложавость. Ты никогда не состаришься.
– Так ведь сорок скоро…
– Сорок – самый сладкий в твоей жизни период. Молочно-восковая спелость. И тянется он где-то до восьмидесяти лет. Так что сладко будет и тому, кому разрешишь себя распробовать. Только чтоб не врач! И тем более, не патологоанатом!
У Большой Берты порозовели мочки ушей.
– Вы очень коварный, – с легким кокетством сказала она. – В краску меня вгоняете.
– Конечно! – признал Мышкин. – Вижу по мордасам. Ты у нас в Смольном институте училась, грубых слов не знаешь, привыкла к изящному обхождению. Помнишь чеховский рассказ о девице, которая боялась выходить на улицу?
– Почему боялась? – поинтересовался Клюкин.
– Потому что на улице полно голых мужчин!
– Это где ж такая улица? – удивился Клюкин.
– Вот и ей говорят: откуда она взяла? Они на улице все одетые! Барышня возражает: «Это они снаружи одетые. А под одеждой – все голые». Тем не менее, Клементьева, сообщаю тебе твое будущее: уже в этом году ты выйдешь замуж. За иностранца. Может быть, за негра или китайца. Или за бушмена.
– Скажете тоже! – теперь у нее пылали щеки. – Вы и в прошлом году мне обещали, и в позапрошлом.
– А чего же ты в таком случае не вышла? – удивился Мышкин. – Или уже развелась?
– Никто не звал.
– Придурки не звали. В прошлом и позапрошлом умные не пересекали твою тропинку. Пересекут в этом. Спорим? На бутылку коньяка?
– Спорим! – храбро подхватила Клементьева.
– Ну и дура! – добродушно заявил Мышкин. – Считай, твой коньяк у меня в кармане.
И добавил примирительно:
– Мне, Танечка, еще пятнадцать минут надо. Сейчас вернусь. Начинайте без меня.
Он вскочил и вприпрыжку побежал в кабинет. Просидел пятнадцать минут, но без пользы. Ничего из вдохновенных секунд на этот раз восстановить уже не удалось.
9. Спор о Сионе. Иудей Пушкин
Тем временем голоса в соседней комнате становились громче.
– Вы должны… Вы все должны рано или поздно признать… – с пьяной настойчивостью утверждал Литвак. – Лучше раньше, для пользы… общей… Признать, что мы – самая одаренная и умная нация на свете.
«А чтоб тебя, холера взяла!.. Опять за свое», – плюнул в корзину для бумаг Мышкин.
– Да, Жириновский в зомбоящике что-то такое тарахтел, – отозвался Клюкин. – Только я ничего не понял. Хоть бы ты, что ль, просветил. Как у тебя, кстати, с доказательствами?
– Они тебе так сильно нужны?
– Да неплохо бы. Чтоб все по науке. Привычка, знаешь.
– Доказательства, Сигизмунд, – на каждом шагу. Их есть у меня , как груш на деревьях! Налей-ка, и я выдам тебе вагон доказательств.
Звякнуло стекло, в тишине Мышкину показалось, что он слышит, как челюсти Литвака перемалывают домашнюю буженину с чесноком.
– Слушай первое доказательство, – откашлялся Литвак. – Мы, евреи, – самые сильные в мире шахматисты. А уж в России и подавно. Все… ну, почти все чемпионы мира по шахматам – евреи. Почему? Да потому, что у нас мозги особые. Элитные. Никуда не денешься – раса такая. Согласен?