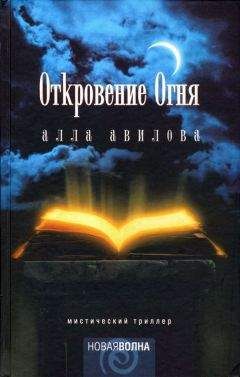Шел апрель, его шестой месяц в Посаде. Как же изменилась жизнь! Была Москва, борьба с человеческой нечистью, мечта об университете: победит революция во всей России, кончится Гражданская война — и он пойдет учиться. Все перевернулось в один день, когда он проводил обыск у Симаковой. Думал, власть была у него, а оказалось — у нее. Власть, от которой не убережешься — власть над мыслями. Он ей приказывал одно, другое, третье — а она незаметно повернула его мысли в другую сторону. Москва? Грязный город. ЧК? Это не для него. Университет? Успеется. Здесь, в Посаде, у него были первый раз в жизни своя комната и время, чтобы читать.
Линников сидел у окна с Далем и, отрываясь от него для раздумий, смотрел на стену Благовещенского монастыря, что стоял на противоположной стороне улицы. С каждым днем ее все больше заслоняли распускавшиеся листья яблонь: перед домом находился сад. Монастырская стена была высокая, выложена из белого камня, для других — глухая, но не для Степана. Его мысли пролетали через нее, блуждали по пустому двору, вокруг построек, уносились на кладбище за храмом. Два ожидания связывали Степана с Благовещенским монастырем. Одно из них было определенное, и он делил его с другими: в бывшей обители должна была открыться детская колония, и Линников собирался вести там уроки грамоты. Другое ожидание было неопределенным, сугубо личным, тайным — и главным.
Из монастыря раздался лай Полкана, сторожившего территорию. По договоренности с комиссаром Гаковым, своим начальником, Степан должен был присматривать за монастырем, пока наконец не появятся новые ворота — старые были сорваны и поломаны. Если Полкан лаял, Линников шел смотреть — на кого. У входа в обитель был установлен щит со словами: «Хождение запрещено». Свои туда больше и не лезли — только чужаки продолжали наведываться в разоренный монастырь.
Полкан держал за полу бушлата молодого человека, пытавшегося от него освободиться. Линников приказал собаке отпустить нарушителя. По одежде тот был из простых, но не по лицу.
— Из бывших? — спросил Степан.
Незнакомец усмехнулся и спросил в свою очередь с издевкой:
— Чекист, что ли?
— Работник детской колонии номер 23, на территории которой ты находишься. Запрещение видел? Только не говори, что неграмотный. Зачем вторгся?
— «Вторгся», ну и слова у тебя, парень. Просто зашел посмотреть. Я в этих местах бывал.
— С маменькой-папенькой?
— С ними. На Пасху, на Троицу.
— А сейчас — что?
— Захотелось посмотреть, что стало с Благовещенским монастырем.
— Документы есть?
Документом была справка об освобождении из политизолятора номер 8, выданная неделю назад Ломанову Дмитрию Вениаминовичу, проживающему в Петербурге. «Номер 8! Политизолятор, где сидит игумен Евгений», — ожгло Степана, и он по-новому посмотрел на задержанного: явился, долгожданный!
— Значит, освободился — и сюда?
— Не совсем. Еду на юг к родственникам, сюда свернул по дороге, — отвечал Ломанов.
— Всего лишь посмотреть?
— Ну да.
— Врешь. Ты жил в Петербурге, чего ж тогда твое семейство сюда на праздники тащилось? — прижал Степан чужака и тут же пожалел: не надо так, лучше было бы подыграть. Вот этого-то он как раз и не умел.
— Да разве мы одни? Сюда многие из столиц к старцам ездили, — не моргнув глазом отвечал Ломанов. — Тебя как звать-то?
— Зачем тебе?
— Чтоб разговаривать было удобнее. Если остерегаешься назвать фамилию, скажи имя. — Голос петербуржца звучал располагающе, взгляд был дружелюбный. «Думаешь, что ловкий! А вот не знаешь, на сколько очков я впереди», — ответил ему мысленно Линников и назвался. — Степа, значит. А меня зови Митя.
Полкан стоял между ними, виляя хвостом и переводя глаза с одного на другого. Ломанов протянул к нему руку, хотел погладить. Полкан его облаял.
— Хорошая собака, — похвалил Митя. — Твоя?
— Служебная.
Ломанов огляделся.
— А что детей-то не видно и не слышно?
— Детей пока нет. Обустраиваемся только. Территорию уже расчистили, столовую, баню приготовили, церкву, вон ту, большую, для спанья приспособили. Дело за воротами. Сделать их в теперешнее время — большая сложность. А без них колонию не откроешь.
— Точнее, не закроешь, — со смехом поправил Митя.
— Вот-вот, не откроешь, не закроешь. Ждем, значит, ворота. Хорошо еще, Полкан есть. Территория для посторонних теперь закрыта. Полкан стережет.
— Славный кобель. — опять похвалил Полкана Митя и потянулся к нему. В этот раз пес сопротивляться не стал. Ломанов умело почесал его, потрепал, погладил, и Линников увидел, что глаза у Полкана осоловели, а хвостом он завилял с удвоенной скоростью. «Продажная тварь!» — приговорил он пса в душе.
Чекист хоть и сказал «служебная», но считал Полкана своей собакой. Кобель был одним из деревенских псов, брошенных уехавшими из Посада хозяевами. В разоренном Благовещенском монастыре еще недавно их обитала целая стая. Ее ликвидацию Степан произвел собственноручно, всех собак прикончил, кроме одной — той, что теперь заискивающе терлась у ног гостя. Линников дал Полкану имя, кормил его, обучал сторожевому делу — и вот, в решающий момент, предательство.
— У меня одно время были две овчарки. Твой Полкан похож на овчарку, — сказал Митя.
— Вот именно, «похож», — не удержался Степан. — Пока не погладят. Дворняга.
— Дворняги муштре до конца не поддаются, это верно. А уж ласку любят, как женщины.
Степан отогнал пинком ставшую ему чужой собаку и сказал Ломанову:
— Я могу провести тебя по территории, коли хочешь.
Они отправились в глубь двора. Митя осматривал монастырь молча, время от времени озираясь, словно что-то искал.
— У меня какой-то провал в памяти, — наконец сказал он. — Часовня святого Пантелеймона, это та или эта?
У северной стены монастыря стояли два похожих друг на друга строения.
— А черт их знает, — сказал Степан.
— Помню, у Пантелеймона была одна примечательная могила…
— Хватился. Да могилы здесь все разорили. Горшки с золотом там, что ли, искали, дурачье. Или родственник какой у тебя здесь зарыт?
— Можно сказать, родственник. Была здесь одна дорогая для меня могила, князя Стаса Оболенского. Мальчиком умер. Мы с братом у этой могилы дали клятву. Глупую, конечно, детскую. Но и клятва эта, и место, где она произносилась, для меня дорогое воспоминание. Нет ли здесь, в Посаде, кого из монастырских?
Этого вопроса Линников ожидал.
— Есть, — сказал он. — Монашек один тут живет, из местных, брат Флор, теперь его Федькой опять зовут. Хочешь, отведу?
— Да ты скажи, где его дом. Я сам его найду.
— Мне нетрудно. Я отведу, — решительно повторил Степан.
Федька оказался кривым пьяненьким старичком. Гостям он не обрадовался.
— Опять, что ли, про монастырь пришли выспрашивать? Покоя от вас нет, кладоискатели. — Не забыл старик, как Линников у него прошлой осенью пытал, где монахи зарыли ценности.
— Да нет, здесь другое, дед. Благочинная история, ты такие любишь. Вот видишь этого красавца? — Степан подтолкнул к Федьке Митю. — Он у вас, в Благовещенском, дитем часто бывал, с братиком. И дали они раз на одной из могил друг другу клятву. Так вот он теперь это святое место и ищет.
— Поди теперь найди, — привычно забурчал Федька. — Порушили все, поломали, хуже татар.
— Послушай, отец, ты склепик Стаса Оболенского помнить? — вмешался Митя.
Федька насторожился.
— Как же не помнить? Помню. Розового мрамора склепик был, березка у изголовья стояла. При мне хоронили голубчика, я только постригся. Народу на похоронах была тьма, дай бог каждому такие похороны. Мать, бедняжка, денег не жалела…
— А место то найдешь? — перебил Митя.
И пошли обратно, теперь уже втроем, в монастырь. Федька привел Степана и Митю к часовне Пантелеймона и указал на один из пеньков.
— Здесь была березка, а за ней — склепик. Я и сам сюда ходил. На кладбище ангелов чуешь, чистотой и строгостью пропитываешься. Придешь, расчувствуешься…
Степан не выдержал и засмеялся.
— Ну и рожа у тебя, дед, — пояснил он. — Послушать тебя — баллада, а на рожу взглянешь — сатира Агитпропа. Они святош ну в точности такими, как ты, представляют.
— Пустобрех окаянный, — выругался Федька и заковылял к выходу.
— Видал дурака? Ни с того ни с сего взбесился, — незло сказал Степан, переводя взгляд со спины монашка на Митю.
— Да это он спьяну, — примирительно отозвался тот.
— Ясно дело. Когда трезвый, с него слова не выбьешь. Я ведь приходил к нему, расспрашивал о прежней жизни, об их темных делах монастырских — он как стена. «Я был конюх, ничего не знаю!» Для тебя-то он сюда приперся, а вот мне тогда отказал: «Не пойду, и все, я со своим прошлым покончил». Вот тебе и покончил. Он по прошлому видал как тоскует, Флор задрипанный!