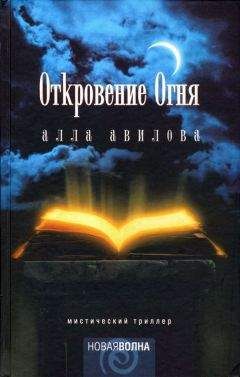— Я, между прочим, занимался пением, — заметил я.
— Да подожди ты, ты слушай, как это было, — с досадой остановила меня разгорячившаяся Надя. — Уже одно то странно, что пожилой человек, простой колхозник, собирается что-то рисовать. Причем Чесучову это не просто захотелось — его охватило жгучее желание и не отпускало, пока он не взял картонку и карандаш. Рука, говорит, сама двигалась. Никогда не рисовал, а получилось не хуже, чем у профессионального художника. Чесучов пришел со своей иконкой на похороны Аполлонии, и я видела его художество. У Евлария довольно характерное лицо: короткий нос, чуть прищуренные глаза, над правой бровью — шрамик…
Шрамик… Где я уже слышал о шрамике?.. Не слышал — читал! Читал в «Любителе древности» у Сизова. Или Чесучову известна монастырская легенда о Захарьиной пустыни? А может, он знает от Степана какую-то другую легенду?
— Слушай, Надя, как ты думаешь, согласится Чесучов показать свою иконку и мне? — спросил я.
— Ага, любопытно стало! А сначала все ухмылялся!
— Так согласится или нет?
— Думаю, что легко согласится. Только ведь он живет не в Москве, а в Малоярославце, туда часа два ехать на электричке.
— Не важно. Как я могу с ним связаться?
— Связаться с ним довольно сложно. Он работает сторожем в школе. Надо звонить в эту школу и просить передать ему, чтобы он перезвонил. Я свяжусь с ним сама и договорюсь о встрече. Кстати, мы можем съездить в Малоярославец вместе, в эти выходные, например. Как ты на это смотришь?
И Надя пообещала мне уже сегодня позвонить Чесучову.
Я взглянул на часы и сообщил, что мне пора.
— Ты спешишь? — разочарованно спросила она.
— Я собираюсь еще поработать. Из-за Кареева у меня выпало полдня — придется наверстывать вечером.
— Я понимаю, — уныло согласилась Надя. — Я, между прочим, тоже теперь работаю. Надо же зарабатывать на жизнь. Устроилась санитаркой, в 1-ю Градскую больницу, где лежала Аполлония. Удивлен? А меня такая работа вполне устраивает. Вчера я отдежурила первый раз. На этой неделе я в ночной смене, с восьми вечера до восьми утра. — Она посмотрела на часы. — Через три часа опять заступать. Ты к метро? И я с тобой. Съезжу домой переоденусь.
Мне предстояло еще сообщить ей о своем решении.
— Надя, я должен тебя разочаровать и по другому поводу. Супружеские перестановки…
Надя внезапно остановилась.
— Правда? — выдохнула она, и ее взгляд упал в землю.
— Я хочу тебе все объяснить…
— Не надо, не объясняй! — опять перебила она меня. Морщинки у нее на лбу стали еще резче. — Ты знаешь, Берт, я хочу пройтись еще разок по бульвару. Ты иди, а я — обратно.
Я поймал ее за руку и остановил.
— Надя, моя кандидатура неудачна во многих отношениях. Лучше будет найти другого «жениха». Я знаю одного голландского стажера в МГУ, его зовут Ханс ван Сеттен…
Надя молча выслушала перечень достоинств моего знакомого. Она не задала ни одного вопроса. Я предложил познакомить ее с Хансом на днях. Она согласилась.
На свидание с Александром Парамоновичем Чесучовым я поехал один. Надя, как и обещала, договорилась с ним о встрече, но сама в ней участвовать не стала. Чесучов вызвался сам приехать из Малоярославца в Москву. Встреча была назначена у Киевского вокзала.
Мне предстояло увидеть человека, пробывшего двадцать два года в лагерях. Если бы не амнистия после смерти Сталина, он отсидел бы свой полный срок — двадцать пять лет и потом доживал бы свой век в ссылке. Таково было в то время наказание за уклонение от службы в Советской Армии. Чесучов был из баптистской семьи. Когда его призвали в армию, он повредил себе руку, и ее пришлось ампутировать. Я должен был узнать его по пустому рукаву.
Маленький, в черной кепке и в безукоризненно белой рубашке, один рукав которой был засучен, а другой заправлен под пояс брюк, он уже стоял на условленном месте до моего прихода и, жмурясь от солнца, смотрел по сторонам — типичный провинциал, теряющийся в большом городе, только сойдя с поезда. В единственной руке у него была клеенчатая сумка.
Я подошел к Чесучову и назвался. Он засунул сумку между ног, протянул руку и представился:
— Дядя Саша.
За вокзалом был пустырь, где сидели на траве люди, многие с вещами. Лучшего места для разговора поблизости было не найти, и мы тоже устроились там. Иконка находилась в сумке. Дядя Саша достал ее и положил передо мной на траву. Я увидел карандашный портрет мужчины на буром картоне. Надя оказалась права: для неопытного человека рисунок был очень хорош.
— Пресветлый Евларий, наставник встревоженных душ, — сообщил умиленно дядя Саша.
— Встревоженных? — непроизвольно переспросил я.
— Встревоженных, — подтвердил Чесучов. — Так он мне сказал.
— Он вам снился, как я понял?
Дядя Саша кивнул и стал рассказывать:
— Сижу я на лавочке у дома. Тут подходит наставник и садится рядом. Все как наяву: дом мой, лавочка моя. Лавочка у меня коротенькая. Я подвинулся к краю, чтоб ему места побольше было. Сижу с ним, что сказать — не знаю. И он сидит молчит. Потом спрашивает: «А чего ты тайной Господнего Равнодушия проникнуться боишься?» Ну и пошел у нас после этого разговор.
— Вы совершаете кенергийские обряды? — удивился я. Удивление появилось и у него на лице.
— Кени… кеги… — Дядя Саша не смог выговорить это слово — он его и не знал. — Я тебе скажу по-своему. Степа узнал из одной старой книги о семи святых тайнах. Чтобы ими проникнуться, надо совершать действа. Это не обряды, как ты говоришь, это другое. Степа научил меня им всем, но я совершал только шесть. К тайне Господнего Равнодушия у меня душа не лежала. Пугало меня это равнодушие. Отец Евларий мне глаза открыл: равно-душие. Пугаться-то надо, если б дело было наоборот! — Чесучов радостно взглянул на меня и приугас. — Ты, наверное, милый, меня не понимаешь? Говорить я не мастер.
Я и правда был в некотором замешательстве, но по другой причине. К этому еще надо было привыкнуть: «действа», триста лет скрывавшиеся даже от монахов, совершались теперь сторожем-инвалидом у себя дома.
— И что было дальше? Вы попробовали после сна седьмое действо? — спросил я Чесучова.
— Попробовал. И проникся. Теперь все семь действ совершаю.
— А вы не боитесь, что совершаете их… ну, что ли, неверно?
— Я совершаю их верно, — сказал дядя Саша убежденно.
— Ну а вдруг — нет?
— Да как же — нет, милый, коль во мне белый огонь горит? Правильно он зажегся или неправильно, я не знаю. Знаю, что он зажегся и горит. Светит, греет, бодрит, мусор в душе сжигает. Я так думаю, что все получилось правильно.
— Белый огонь — это что?
— Этого я тебе объяснить не смогу. Уж на что Степан ученый был, и тот белый огонь объяснить не мог.
— Я видел книгу, что была у Степана Александровича, — сообщил я.
Чесучов посмотрел на меня обрадованно.
— Ну тогда ты сам все знаешь, — сказал он. И никакого интереса к самому «Откровению». Даже не спросил, где я его видел.
— Вам Степан, наверное, рассказывал, как он узнал об этой книге?
— Рассказывал. Узнал он о ней от старушки по фамилии Симакова. Книгу-то ту прежде Симакова держала.
— А после нее — кто?
— После нее — монахи.
— Что за монахи?
— Этого я не знаю. Знаю, что монахи книгу у Симаковой выманили.
— Она ведь от монахов ее и получила, верно? Может быть, от тех же самых?
— Нет, не от тех же. Симакова получила свою книгу от одного старца. Он жил в лесу, всего себя белому огню отдал.
«Никита! — мгновенно определил я. — Так „старушка Симакова“ — это, наверное…» И чтобы проверить свою догадку я спросил дядю Сашу, известно ли ему, как Симакову звали по имени. Увы, ответ был отрицательный.
— Симакова — случайно, не родственница Степана Александровича?
— Да нет, он ее встретил по работе. Степан чекистом работал в Москве. Это она, старушка Симакова, рассказала ему о белом огне, но он ей не поверил. И ее книга тайн ему не помогла. Тайны-то эти не для ума, а Степан привык все умом брать, — вот они ему и не дались. Так бы он и помер, думая, что белый огонь — выдумка, если бы под конец жизни озарению не сподобился. Это было в лагере. Свалила его там раз лихорадка, застудился он. Так вот, в горячке он белый огонь и распознал. Двадцать лет в него не верил, а тут вмиг душой прозрел. Так оно часто бывает — через озарения. — Здесь Чесучов перевел свой взгляд на меня и спросил: — Теперь тебе понятно, как было дело?
— Понятно, — машинально ответил я и поинтересовался, когда Степан умер.
— Еще до войны, — сообщил мой собеседник. — Тихо умер, как голубок. Раз заснул и не проснулся.
— Вы, наверное, сейчас единственный, кто совершает действа? — спросил я.
— Ну, почему единственный. Племянника им научил, Геру. Он все ко мне приставал, как я в лагере смог выжить. Подозрительно это ему было, что я живой и бодрый оттуда вернулся. «Столько народу, — говорит, — там померло, а ты жив-здоров. Это какими же заслугами?» Ну я ему о белом огне и рассказал. Недавно Гера ко мне двух девушек привел, подружек — чтобы и им рассказать. Я не отказал. Вот так, потихоньку да понемногу, и узнает народ о белом огне. Все получается, как пресветлый хотел. — Дядя Саша перевел взгляд на иконку, лежащую перед нами на траве. Шрамик был изображен изогнутой линией.