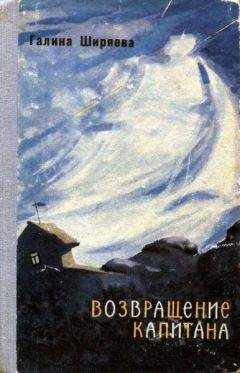В луже воды, которая разлилась вокруг меня, было холодно, я вскочила, а мама, выплеснув напоследок на меня еще кувшин воды, сказала «слава богу» и кувшин выронила. Кувшин покатился вниз по лестнице, Марулька бросилась за ним и р-раз! — тоже растянулась на ступеньках, зацепившись ногой за то же самое, за что зацепилась я несколько минут назад. За «рационализацию»! Провод тянулся из Марулькиной квартиры прямо к двери в башню. А на пороге этой двери, открытой до половины, валялась на полу лампа с разбитым голубым абажуром. Это я разбила его, когда зацепилась…
Марулька кувшин догнать не успела, он только дзенькнул на последней ступеньке, а я тут же завопила что-то насчет электрика, счетчика и этих дурацких рационализаций, из-за которых нам обязательно выключат свет! Вот придут и вывернут пробки! Вот придут и вывернут!.. Я так ругалась (по-моему, я даже лезла к Марульке драться), что мама прилепила горящую свечку к перилам и побежала на улицу ловить «скорую помощь» сама, чтобы извиниться перед ней и сказать, что она не понадобилась…
Когда мама с Санькой вернулись, я все еще орала на перепуганную и зареванную Марульку и требовала, чтобы она объяснила, такая-сякая, зачем это ей ночью понадобилось лезть в запрещенную башню, да еще зажигать там настольную лампу, да еще с голубым абажуром, да еще шевелиться там, в башне, и заслонять своей тенью окно… Пусть расскажет! Пусть объяснит, зачем ей нужно было лезть в башню! Пусть объяснит, такая-сякая, почему у них в доме никогда нет спичек, которые можно зажигать, если уж им очень хочется лезть ночью в башню! Я несколько раз даже стукнула кулаком по перилам лестницы. А потом еще раз стукнула. Тогда мама тоже вышла из себя и тоже стукнула кулаком и потребовала, чтобы я, такая-сякая, объяснила ей, чего это я искала сегодня ночью в доме до того, как стала греметь в кухне корытами! И вообще, хотелось бы ей знать, когда мы оставим в покое эту аварийную башню! И еще хотелось бы ей знать, когда отец, такой-сякой, заколотит ее совсем!
После этого я замолчала, а Санька сказал что-то телеграфное. Радовался, наверно, что я жива.
Я не люблю воспоминаний!
Но если уж о них говорить, то самым светлым воспоминанием в моей жизни, кроме Петра Германовича, был, конечно, Виктор Александрович. Он — моя гордость.
В нашем штабе боевой славы, в школе, висит его старая солдатская фотография. Там ему всего восемнадцать лет. Он там совсем как мальчишка и похож на нашего вожатого из девятого класса. Я украла эту фотографию из нашего альбома в позапрошлом году потихоньку от мамы. Тогда же папа выступал у нас на сборе и рассказывал боевые эпизоды. Правда, эпизоды нам показались не очень интересными — в кино мы видели интереснее, — но все равно такая мертвая тишина стояла в зале, что у меня защипало в носу от гордости. А потом… Я до сих пор не могу простить этого Фаинке! Папа кончил рассказывать и напоследок сказал о том, что мы должны беречь память о тех, кто погиб на войне, потому что они отдали свою жизнь, защищая нашу Родину, нашу землю и нас самих. И вот тогда Фаинка вдруг стала тянуть руку. Она всегда тянула руку как-то противно — высунувшись из-за парты, словно ей хотелось дотянуться до потолка.
— Да. Пожалуйста, — сказал папа, глядя на Фаинку и думая, что она хочет задать вопрос.
Фаинка встала и очень громко, на весь зал, сказала, что Виктор Александрович ошибся, что те, которые погибли на войне, нас никак не могли защищать, потому что нас тогда еще не было на свете. Совсем не было. Это они других защищали.
В зале сразу зашумели, заволновались, а Колька Татаркин даже сказал: «Правда. Мы сами себя защитим». Я покраснела, я думала, что сгорю со стыда. Я не выдержала и выскочила из зала.
Ах, папка, папка! Надо же было ему так промахнуться! Может быть, мама права — не надо было ему идти в учителя. Уж лучше бы он стал археологом. «Господи, — ужасалась мама часто, глядя на меня или на Саньку. — И как только ты управляешься с бандой этих преступников?» Тогда папа начинал сердиться, доказывал, что класс — это не банда, а ученики — не преступники. Санька при этом делал печальное-печальное лицо и выдавал какую-нибудь страшную тайну четвертого «Б»: «А мы вчера Мишке Сотову на голову бутылку чернил вылили…» А я молчала. Потому, что папа знал все тайны нашего шестого «А»! Ах, если бы и шестой «А» знал, как здорово папа учил меня гонять футбол, драться на шпагах, давать сдачи мальчишкам!
Мы вместе с ним потихоньку от мамы выпускали ночью из мышеловки мышей — пусть Васька ловит их сам, по-честному. Мы с папой здорово похожи друг на друга, а мама еще говорит, что у нас с ним ужасно одинаковые характеры.
Нет! Я не люблю воспоминаний! Но если уж они приходят, то в первую очередь я начинаю думать о Петре Германовиче и о папе.
А вот о маме раньше мне почему-то никогда не приходилось думать. То есть я о ней думала, конечно, но не так, как теперь, в этот вечер… Я лежала в постели со своей шишкой, а мама сидела возле меня и прикладывала к моей голове мокрое полотенце. Я не знаю, почему вдруг мне в голову пришли эти мысли. Может, оттого, что шишка болела. Или, может, оттого, что лицо у мамы было очень грустное. Я вдруг стала думать о том, что, пожалуй, моя мама красивее Татьяны Петровны. Конечно, красивее! У мамы такие большие, тихие и добрые глаза. И нос ровненький, симпатичный. Мне бы такой. А волосы у нее, пожалуй, пышнее, чем у Татьяны Петровны. Если бы маме хоть раз по-настоящему чего-нибудь испугаться, как я сегодня, и сразу поседеть, то они у нее были бы в тысячу раз красивее!
Я никогда раньше не думала вот так о маме, и мне ужасно хотелось сказать ей что-нибудь по-взрослому хорошее. В особенности мне хотелось это сказать ей тогда, когда мама меняла полотенце. Моей голове, то есть шишке, сразу делалось прохладно и приятно. Но я знала точно — мама молчит, пока я молчу. Если же я заговорю, все равно о чем — о маминых волосах или о моей шишке, — мама немедленно опять начнет меня расспрашивать, кого это я искала вчера ночью в доме, и зачем это Марулька полезла в запрещенную башню, и зачем мне нужно было бежать по лестнице так быстро, да еще вопить по дороге… И я молчала. А потом даже притворилась, что уснула, даже стала похрапывать. Хотя это было ужасно — художественно храпеть, когда этого совсем не умеешь делать.
Но мама все равно ни разу не отошла от меня. Она еще долго сидела рядом, на стуле, и меня словно пытали, — ни пошевельнуться, ни почесаться, ни шишку пощупать.
Потом мама легла в постель, но еще долго не спала, все ворочалась и прислушивалась, как я дышу. Потом она все-таки уснула. А я лежала, не спала, и мне было грустно. Я сама не знаю, отчего это мне было так грустно и хотелось реветь. А тут еще эта шишка!
Когда я проснулась утром и открыла глаза, то увидела возле себя Марульку. Она сидела там же, где вчера вечером сидела мама, в очень неудобной позе, вытянувшись в струнку, словно позади нее была пустота, а не спинка стула, на которую можно было опереться, и во все глаза смотрела на меня. Увидев, что я проснулась, она вся дернулась ко мне и спросила:
— Ну? Что?
— О чем ты? — спросила я очень холодно, не глядя на нее, — ведь про съеденный в Австралии автомобиль я ей уже давно сказала.
— Я о шишке, — ответила Марулька и добавила тут же, что моя мама уже ушла на работу и просила перед уходом ее, Марульку, выяснить, как я себя чувствую, и если плохо чувствую, то надо ей, Марульке, бежать к маме в редакцию и доложить об этом.
Я слушала ее и помаленьку набиралась злости.
— Слушай, Марулька, — сказала я сердито, когда злости во мне набралось достаточно, — у меня хоть и шишка, но я все-таки соображаю больше тебя. Разве ищут привидения с настольной лампой? У привидения глаза светятся поярче лампы. Разве не помнишь, как у нее, у той, в плаще, светились глаза?
Марулькина длинная шея еще больше вытянулась, и сама Марулька вся выпрямилась и вытянулась, словно боялась свалиться со стула.
И тут вдруг я увидела, что Марулька ревет. Нет, не ревет, а плачет, совсем как взрослый человек. Не всхлипывает, а слезы текут. Так плакала мама, не всхлипывая, когда два года назад Санька схватился за оборванный провод и его чуть не убило током. А вот чтобы так плакали девчонки, я никогда не видела.
— Нюня! — сказала я ей растерянно, потому что и в самом деле очень здорово растерялась. — Вот нюня!
Наверно, мне не нужно было говорить это сердито. Или не нужно было вообще этого говорить. Марулька подняла на меня глаза, и мне вдруг показалось, что я ужасно похожа на Фаинку Круглову, что у меня такие же длиннющие ресницы, а волосы покрашены синькой. Мне даже стало прохладно, словно на мне было надето кожаное платье, сшитое из краденой кожаной куртки… Я потом поняла, почему это мне показалось, — потому что Марулька смотрела на меня такими же в точности глазами, какими она часто смотрела на Фаинку, — холодными и даже злыми. И вдруг я поняла, что она что-то знает такое, чего я не знаю, и что она ничегошеньки мне не расскажет. Рассказала бы, может быть, несколько минут назад, до того, как я обозвала ее нюней, а теперь не расскажет.